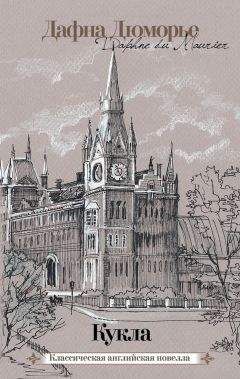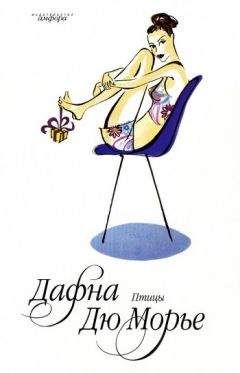Дафна дю Морье - Козел отпущения
Предзакатное солнце окрашивало все в густые, теплые тона. Это был дружественный город, все прохожие мне улыбались. «Рено», дожидавшийся меня на площади Республики, показался мне вдруг моим старым «рено», и белая пластиковая сумка Мари-Ноэль на сиденье, там, куда девочка кинула ее, придя с рынка, была не похожа ни на какой другой предмет, замеченный невзначай в чужой машине, полна особого смысла: я сразу увидел, как она болтается на узком запястье поверх короткой белой нитяной перчатки. Даже банк на углу в глубине площади стоял на своем месте, выполнял свое предназначение. Виллар был крепостью, убежищем, и, выезжая из него, я спрашивал себя, почему дар, принесенный мне чужой любовницей, оказался таким удивительным противоядием против моей тревоги, так расслабил натянутые нервы. Теперь я ничего больше не буду принимать близко к сердцу — ни слезы Франсуазы, ни вспышки Рене. Мать можно будет задобрить лаской, дочку — баловать в разумных границах, брата — успокоить, сестру — смягчить; никто из них не представлял больше проблемы, как это было в первые двое суток под кровлей замка.
Почему это так — трудно сказать. Одного физического довольства было недостаточно, в прошлом я имел случаи в этом убедиться. Может изменение личности ускорить внутренний темп, высвободить в мозгу какую-то клеточку, которой прежнее твое «я» из некоего предубеждения не давало воли? На свете полно несчастных, неприспособленных людей, которые призраками блуждают по жизни, пытаясь спрятаться от нее и обрести себя при помощи женщин. Я не из их числа. Бела из Виллара завершила картину, где уже были мать, жена и дочь. Сердечность первой, доверие второй, смех третьей слились воедино, и возникла четвертая — Бела. Когда я это увидел, я потерял голову. Такова часть ответа, но только часть.
Я не спутал ни одного поворота на пути в Сен-Жиль, и, пока я приближался к замку — липовая аллея, мост через ров, ворота, подъездная дорожка, — а затем, проехав под сводчатым входом в стене, направлялся к службам, которые еще ни разу не видел вблизи, моя уверенность в себе все росла. Теперь меня ничем не устрашишь. Я оказался во дворике, где было два гаража с распахнутыми воротами, сарайчик и пустая конюшня со сломанными стойлами. Когда я вылез из машины, с шумом захлопнув дверцу, на пороге конюшни появилась старуха, с которой я разговаривал накануне в коровнике, и, сказав что-то насчет «господина графа», позвала кого-то через плечо. Следом за ней в дверях возник мужчина в синем комбинезоне. Они, улыбаясь, подошли ко мне, и мужчина спросил, помыть ли машину. Я сказал «да», — возможно, здесь было так заведено; старуха вновь стала что-то бормотать, из чего я разобрал только три слова: «Beau temps» и «la chasse»,[47] а я кивал и улыбался ей в ответ.
Я прошел обратно через сводчатый проход, и пес тут же подбежал к загородке и залаял. Я остановился и принялся тихонько звать его по имени, но он продолжал лаять, в то же время неуверенно помахивая хвостом. Я приблизился ко входу в его вольер, чтобы он понюхал мою одежду. Он втянул носом воздух и растерянно отошел. Я увидел, что от конюшни на нас смотрит человек в комбинезоне.
— Что приключилось с Цезарем? — спросил он.
— Ничего, — ответил я. — Должно быть, я его напугал.
— Странно, обычно он носится как угорелый от радости, когда видит вас. Будем надеяться, он не заболел.
— Пес в полном порядке, — сказал я. — Правда, Цезарь?
Я протянул руку и потрепал его по голове; успокоившись понемногу от моего тона и ласки, он продолжал молча обнюхивать меня, но, когда я тронулся с места, снова начал рычать.
— Если он будет так себя вести в воскресенье, — сказал мужчина, — много вам будет от него проку… Может быть, дать ему после еды касторки?
— Нет, — сказал я, — не трогайте его. Он скоро придет в себя.
Что такое Цезарь должен делать в воскресенье? — подумал я. Может быть, если я стану сам его выводить, он привыкнет ко мне и подозрительный лай уступит место приветственному повизгиванию? Иначе он привлечет к себе всеобщее внимание, начнутся расспросы, бедного пса обвинят в предательстве по отношению к хозяину, когда на самом деле он — единственное живое существо в Сен-Жиле, которому инстинкт подсказал правду.
Я поднялся но ступеням на террасу и когда вошел в холл, из ниши направо от входа, где висел телефон, вышел навстречу мне Поль.
— Где, черт побери, ты пробыл весь день? — спросил он. — Мы разыскиваем тебя с часу дня. Рене тебя потеряла, вернулась домой в наемной машине, а затем, когда мы кончали завтракать, ко всеобщему удивлению, появилась вдруг Мари-Ноэль и преспокойно заявила, что ее подвезли на грузовике. Лебрен ждал до двух часов, но потом был вынужден уехать. Он только что снова звонил.
— А что случилось? — спросил я.
— Что случилось! — повторил Поль. — Ничего, если не считать того, что Франсуазе плохо и Лебрен запретил ей вставать с постели. Если она не будет осторожна, ее ждет выкидыш и она потеряет ребенка. И сама, скорей всего, будет на волосок от смерти. А больше ничего не случилось.
Я заслужил презрение, звучавшее в голосе Поля. Сейчас виноват был не Жан де Ге, а я. Я обещал вернуться пораньше, чтобы повидать врача. Я не сдержал обещание. Даже не вспомнил о нем.
— Какой у него номер телефона? — спросил я. — Сейчас же ему позвоню.
— Бесполезно, — сказал Поль. — Он снова уехал на вызов. Я ему сказал, чтобы он попытался связаться с тобой попозже вечером.
Поль повернулся на каблуках и, пройдя через столовую, исчез в библиотеке. Больше он не собирался меня ни о чем расспрашивать. И на том спасибо. Я знал, что мне следует сделать. Я прямиком поднялся наверх в спальню. Шторы были опущены, камин зажжен, в ногах кровати стояла ширма, заслонявшая огонь. Франсуаза лежала на высоких подушках, закрыв глаза. Когда я вошел, она их открыла.
— А, это ты, — сказала она, — я уже давно поставила на тебе крест. Сказала им всем, что ты, возможно, сел в поезд и едешь обратно в Париж.
Голос был безжизненный, монотонный. Я подошел к кровати и взял ее за руку.
— Мне следовало позвонить, — сказал я. — Меня задержали в Вилларе, но, честно говоря, я забыл. Мне нечего сказать в свое оправдание. Я даже не прошу простить меня. Как ты себя чувствуешь? Поль передал мне, что доктор Лебрен велел тебе лежать.
Ладонь в моей руке была холодная и вялая, но она ее не отняла.
— Если я встану, я потеряю ребенка. То, чего я боялась с самых первых дней. Я всегда знала, что случится что-нибудь плохое.
— Ничего плохого не случится, — сказал я, — надо только быть осторожней. Вопрос в том, насколько компетентен Лебрен. Ты не будешь против, если я приглашу акушера?