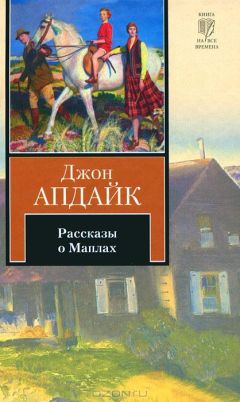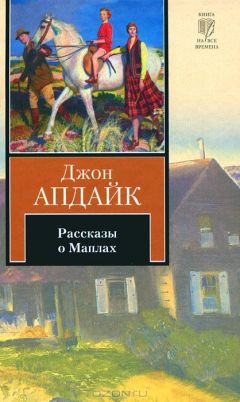Джон Апдайк - Бразилия
– Я жил как уличный пес, – отвечал он. – Через несколько лет меня убил бы либо полицейский, либо другой такой же уличный пес. С тобой в мою жизнь вошли надежда и смысл. Я не могу пожаловаться даже на тяжелые годы на прииске, ведь я возвращался с работы к тебе. Помнишь, я сидел на крыльце, дробил камни и мыл золото, а ты готовила пищу, убирала со стола и укладывала детей спать? Я никогда не знал большего счастья, Изабель.
– Не надо, Тристан! – кричала она, и слезы брызгали из ее глаз, как семя. – Не делай меня лучше, чем я есть на самом деле! Я превратила тебя в робота. Да, у тебя есть работа, но если по совести – она скучна и бессмысленна. Скажи честно, разве ты не ненавидишь меня?
Он отвечал ей по-прежнему мягким и почти бесстрастным голосом; возможно, он специально хотел наказать ее.
– Нет, у меня очень интересная работа. Я работаю с людьми, с мужчинами и женщинами, хотя, разумеется, женщин во властных структурах еще очень мало, и я должен вести их к достижению одной цели – к построению мира будущего. В Бразилии приходит конец эпохе рабовладения, и я, человек малокомпетентный, могу принести пользу, поскольку я был и рабом, и хозяином. Что же касается ненависти к тебе, чувство это перечеркнуло бы мою жизнь. Амазонка потечет вспять к Андам, если я буду ненавидеть тебя. Ты рабыня моей любви, моя голубоглазая негринья.
Он шел к ней через спальню – комнату со множеством подушечек, с красивыми занавесками и фотографиями в рамочках, изображающими Тристана и Изабель на отдыхе и детишек в школьной форме, – и останавливался перед женой, сидящей на обитом атласом пуфе у туалетного стола, и та видела, как бугрится его початок под ширинкой, ощущала его тепло, через черное сукно касалась его члена сначала кончиками пальцев, а затем и губами. Теперь они редко занимались любовью – богатая супружеская пара редко ходит в банк проверить содержимое своих сейфов, – однако когда они делали это, то сокровища их всегда оказывались на месте и всегда казались новыми, будто шкатулку с драгоценностями кто-то потряс, пока их не было.
Жизнь ее была полна забот, однако описать эти заботы едва ли возможно. Изабель отдавала указания слугам, одаривала любовью детей, когда гувернантка приводила их перед школой или перед сном. Она составляла меню для Тристана и следила за тем, чтобы ленивые неряшливые служанки – все, как одна, с северо-востока – не забывали самым нахальным образом о домашних делах, проводя все время в сарае с пареньком-садовником. Она покупала одежду у Фиоруччи и Гуне Клос и планировала поездки за границу для себя и Тристана. Она стала играть в теннис, хотя главным в ее занятиях спортом были, конечно же, ленчи в тени зонтов, когда после игры ее спутницы во влажных от пота белых рубашках с коротким рукавом эффектно набрасывали на плечи кофточки и задорно болтали друг с другом.
Быть богатым бездельником вроде дяди Донашиану уже не было модным. Мужчины, даже обеспеченные, ходили на службу, работали и женщины моложе Изабель. В этом теперь был особый шик. Но Изабель уже было поздно устраиваться на работу. Ее образование было пущено по ветру искрометных речей о революции; Мату Гросу стало для нее чем-то вроде средней школы, научившей Изабель выживанию в исчезнувшем мире. Приятное безмолвие окружало ее прошлое; ее новые подруги не спрашивали, где она училась и как жила до свадьбы с Тристаном, ибо предполагали, что свое место в верхнем слое среднего класса она заработала в постели. Голубые глаза усиливали ее очарование, но и без очаровательных глаз ее бы повсюду принимали. У португальцев нет суеверного страха перед черной кожей, как, например, у народов Северной Европы. Они никогда не открещивались от Африки; бразилец открещивается только от чудовищной негритянской нищеты и порожденной ею преступности. Изабель с ее любезными манерами и пикантной шаловливостью была подтверждением для всех и каждого, что их общество в состоянии производить на свет такие черные украшения. Она занялась благотворительностью, и ее фотографии стали мелькать на страницах газет; на снимках она смотрелась темным пятном на фоне остальных участников собраний. Все любили ее, а с ней и ее мужа за их верность друг другу в мире, где не было ничего постоянного, все священное осмеивалось, а алчность разъедала всех и вся, губя целые корпорации и компании, которые, как трупы капибара, выеденные изнутри прожорливыми паразитами, рассыпались, испустив облачко зловонного дыма. Инфляция снова стала расти, достигнув тысячи процентов в год; Большие Парни продали будущее Бразилии международным банкам, а вырученные деньги истратили на себя.
За эти годы в жизни Тристана и Изабель случались повышения по службе, ремонт дома, маленькие неприятности со здоровьем, одно-два дорожных происшествия, отпуска; Бартоломеу, Алуйзиу и Афродизия мирно росли и ходили в модные католические школы. Случались и похороны: отец Изабель умер от атеросклероза и инфаркта миокарда, вызванных переутомлением и износом организма от многолетней работы за границей. В течение нескольких лет он болел и телом, и душой. То, что он нанял в слуги кудрявого рыжего дурака, было одним из первых признаков его болезни. Вся информация, содержавшаяся в его большом и неустойчивом мозгу, все иностранные языки, протоколы, тонкости интриг к концу жизни окончательно перемешались у него в голове. К своему удивлению, среди его вещей Тристан и Изабель обнаружили тот золотой самородок, который Тристан когда-то выкопал на Серра-ду-Бурако и который он в последний раз видел, отдавая на хранение в банк; в конце концов этот слиток оказался среди вещей заместителя министра по делам развития внутренних регионов. Рядом с этим самородком лежала непонятная записка: «Выделить половину средств от его продажи на обучение моего сына или, если для него это уже поздно, на обучение моего внука Пашеку». Пашеку? За этим именем что-то стояло, но Тристан никак не мог вспомнить, что именно. Кроме того, они не хотели ни с кем делить наследство. Честно говоря, они ожидали получить намного больше после смерти Саломана. На их банковский счет поступали суммы с большим количеством нулей, которое правительство время от времени сокращало, чтобы обуздать ненасытную инфляцию, но денег всегда не хватало или, по крайней мере, им казалось, что у друзей денег всегда больше, чем у них. Они ходили к зубным врачам, на чаепития, обеды, конфирмации, выпускные вечера, школьные футбольные матчи и детские концерты. Банальная монотонность буржуазной жизни, скрывающаяся под яркой личиной, не поддается описанию пером. Хотя эта глава и описывает самый длинный период жизни Тристана и Изабель, пусть она закончится именно этим предложением.
СНОВА КВАРТИРА
С дядей Донатиану произошло нечто странное. В 1977 году развод наконец узаконили, и десять лет спустя он развелся с тетей Луной и женился на своей экономке, кухарке и давней сожительнице Марии. Через год она бросила его, и никто не мог понять почему. Дяде будто на роду было написано переживать романтические трагедии. Изабель жалела дядю Донашиану, и ее визиты в холостяцкую квартиру в Рио стали более частыми.
В ту роковую поездку Изабель уговорила Тристана провести с ней несколько дней предоставленного ему текстильной фабрикой рождественского отпуска. Они хотели было взять с собой детей, но потом решили, что праздничная атмосфера солнечного Рио слишком опасна для малолеток, ибо преступность, блуд толпы бездомных и голые люди в общественных местах стали для Рио обычным делом. Их дети росли избалованными, не знающими жизни горожанами, и присутствие скучающих взбалмошных ребятишек будет слишком обременительным для бездетного пожилого хозяина.
Дядя Донашиану принял их тепло и радушно: уход второй жены ударил его гордость, и он сильно постарел. В его волосах, зачесанных назад, подобно хохолку тропической птицы, появились седые пряди, которые чередовались с какой-то механической последовательностью, словно были сделаны некой тщеславной машиной. Руки у дяди тряслись от чрезмерных возлияний на сон грядущий, очарование его увяло, а манеры стали напоминать ужимки старой девы. В разговоре он то и дело бессильно делал паузы и принимал озадаченную, умоляюще-почтительную позу.
На смену подсвечникам, украденным Тристаном и Изабель много лет назад, пришли два почти таких же хрустальных подсвечника, а огромная люстра по-прежнему свисала из дымчатой стеклянной розы, по паучьи расставив бронзовые рожки. Тристан по-прежнему ощущал в этой квартире лучезарную тишину церкви, однако обстановка – подушки с бахромой, вазы в нишах, золотые корешки нечитаных книг – уже не казалась ему сказочной; все эти вещи выглядели немного потертыми и старомодными. Тристан и его друзья из Сан-Паулу предпочитали более грубые прямоугольные формы, резкий контраст черного и белого цветов, низкие торшеры, которые расплескивают вокруг себя лужи слабого света, – иными словами, им нравился стиль современной конторы, несколько смягченный отсутствием сверкающего пластика, компьютеров и копировальных аппаратов. На фоне таких стандартных жилищ, апартаменты дяди Донашиану смотрелись гаремом, где на подушках должны возлежать в прозрачных одеяниях женские тела, которых, к разочарованию присутствующих, здесь почему-то не было.