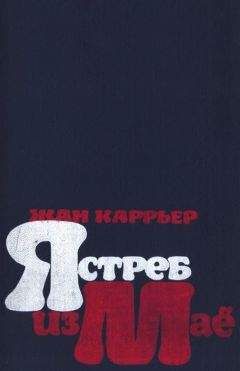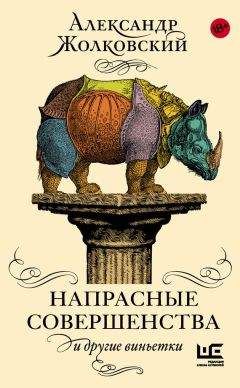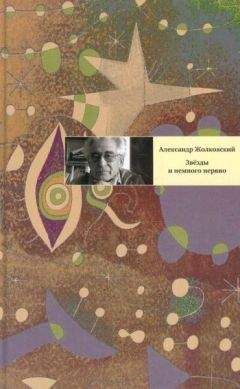Александр Жолковский - Эросипед и другие виньетки
Аспирантка из Корнелла, привезшая мне в подарок книгу Каллера, рассказала свежую академическую сплетню. Будто бы Якобсон позвонил Каллеру по междугородному телефону и целый час раздраженно выговаривал ему за непонимание его работ и некорректность аргументации. Меня в этой истории — при всех поправках на неизбежный шум в канале многократной изустной передачи — поразило, что великому Якобсону, находившемуся в зените международной славы, оказалось столь важным мнение малоизвестного оппонента.
Телефон и впрямь оказался испорченным довольно сильно. Запрошенный по электронной почте, Каллер только что сообщил мне, что история со звонком — апокриф. По его мнению, она явилась искаженным отражением уязвленно-язвительной полемики Якобсона с рядом его критиков-постструктуралистов, в том числе с ранним, журнальным вариантом его, Каллера, главы (1971 г.). В 20-страничном Postscriptum’е к французскому изданию своих работ по поэтике (Questions de Poetique, Paris, 1973, под ред. Цветана Тодорова) Якобсон обрушился на своих оппонентов, обвиняя их в эстетической глухоте, но ни одного их них не удостоил называния по имени. (Кстати, в те годы Questions… были единственным хоть как-то доступным серьезным сборником по якобсоновской поэтике, содержавшим, в частности, и статью о статуе; я добыл ее, упросив Кристиана Метца, с которым пятью годами раньше познакомился в Варшаве, прислать ее мне из Парижа.)
Так или иначе, к середине 70-х годов в издательстве Мутон вышло уже три огромных тома «Избранных трудов» Якобсона. Его слова оказалось достаточно, чтобы на европейские языки была переведена пропповская «Морфология сказки», дожидавшаяся этого три десятка лет и вот теперь, благодаря Якобсону, наконец, обретшая новую жизнь. Известность Якобсона перешагнула далеко за рамки русской филологии (едва ли не во все отделы которой он внес свой вклад), да и общей лингвистики, поэтики и семиотики. К нему прислушивались инженеры-акустики, психологи, физиологи и антропологи, в том числе ставший его соавтором Леви-Стросс. Американские коллеги и аспиранты научились не коверкать его фамилию, и вместо напрашивавшегося «Джейкобсон», шикарно, с сознанием собственной причастности к таинствам европейской культуры, произносили ее с начальным «Йаа-» (правда, ударным на английский манер). Почему же его так сильно задела критика Каллера и других?
Оставляя в стороне разговоры о по-российски авторитарном темпераменте Р. О., я хочу предложить несколько иное, отчасти интроспективное понимание ситуации. По целому ряду причин, признание — публикации, переводы, издания, собственная школа, высокая цитируемость — пришло к Якобсону сравнительно поздно. Свою роль тут сыграли и двукратная эмиграция (из России в Европу, из Европы в Штаты), и периферийность славистики на мировой лингвистической арене, и долгая борьба как с традиционной филологией, так и с другими ветвями структурализма (копенгагенской, американской), и непринятость в американском университетском истеблишменте, особенно тогдашнем, интердисциплинарной ориентации, трактуемой как дилетантизм.
Усугубляли положение его происхождение и специальность. Как эмигрант из Советской России, он был почти полностью лишен возможности опереться на поддержку покинутой родины и даже былых соратников — отсюда, возможно, и острота реакции на трусливые маневры Шкловского. А как русист и славист, свою борьбу за переворот в науке Якобсон вынужден был вести на одном из самых ее рутинных участков. Особенно это касается Америки, где преподавание русского языка и литературы было в основном делом разного рода полупрофессиональных выходцев из России (вспомним многочисленные набоковские шаржи на эту тему).
В результате, достигнутый, наконец, успех (в какой-то мере даже и на советском фронте) мог восприниматься им не только как заслуженный и завоеванный в упорной борьбе, но и как новаторский, дерзкий, ранний — «первый». Увенчанный лаврами мэтр (профессор Гарвардского университета, автор многотомного собрания сочинений, и прочая, и прочая) сочетался в Якобсоне с полным молодежного задора футуристом-революционером. Если угодно, в этом можно усмотреть еще одно проявление характерного для русской культуры отставания-ускорения, сделавшего, например, Пушкина классицистом, романтиком и реалистом в одном лице.
Такое совмещение этапов и самосознание борца с консервативной традицией оставляли Якобсона неподготовленным к критике, так сказать, слева, от представителей новой научной парадигмы, как бы из будущего, — критике, продиктованной не оборонительным рефлексом дремучего непонимания, а изощренной, усвоившей и релятивизировавшей уроки структурализма постструктурной рефлексией. Этому вторило, делая удар особенно чувствительным, то, что наносился он из области не отсталой славистики, а новейшей общей теории литературы, причем как раз тогда (в условиях достаточной опубликованности и распространенности основных трудов) и там (в книге «постороннего» наблюдателя, озаглавленной «Структурная поэтика»), когда и где следовало, казалось бы, ожидать желанной, законной и окончательной канонизации структурализма, в частности, якобсоновского. Открытым для пересмотра вдруг оказалось не только содержание, так сказать, семантика, его работ, но и их прагматика — ставшая уже привычной роль новатора в науке.
Это действительно могло болезненно подействовать на самый обнаженный экзистенциальный нерв его незаурядной личности.
После смерти Якобсона (1982 г.) задача опубликования и популяризации его наследия легла на его учеников во главе с Кристиной. Они справились с этим прекрасно. Но хранение огня уже ввиду своей по определению консервирующей природы редко бывает свободно от оборонительных тенденций к фракционности и мумификации. Впрочем, сегодня помнится не столько это, сколько часовой телефонный разговор (осенью 1986 года) через весь континент с Кристиной, уже знавшей о близости своей смерти и потому говорившей — о Якобсоне, Маяковском, науке, о себе, обо мне и наших спорах — с поистине последней прямотой.
Глава, вписанная Р. О. Якобсоном в историю науки, была оригинальной, многогранной, значительной, но — не последней. Еще при его жизни началось неожиданное переосмысление его наследия, причем не только в критически-негативном духе, но и в творчески-позитивном. Так, на первый план среди его работ по поэтике внезапно выдвинулась работа о мотиве статуи в жизни и творчестве Пушкина, оказавшаяся созвучной постструктурному выходу из имманентного текста в разнообразные — психологические, биографические, мифологические, социальные — аспекты прагматики дискурса. Можно ожидать, что карта обследованных Якобсоном территорий будет еще долго уточняться и перекраиваться, как под знаком его довольно-таки монологических предначертаний, так и под действием очередных волн непредсказуемой диалогизации, склонных тревожить вечный сон великих деятелей — ради продолжения разговора. Якобсон против этого, возможно, не возражал бы. Недаром среди его любимых произведений были «Медный всадник» и «Кроткая».
Санта Моника, сентябрь 1997 г.
Мой первый real estate
Эмиграция из СССР, месяц в Вене, семестр в Амстердаме, переезд в Штаты — сначала в Итаку, а потом в Лос Анджелес — все это порядком поиздержало мою готовность к переменам. Пословица «Лучше два пожара, чем один переезд» — не только советская. Российскому человеку трудно даются transitions. Я-то уж точно вышел из гоголевской «Шинели» — из того пассажа, где «при слове «новую» у Акакия Акакиевича затуманило в глазах, и все, что ни было в комнате, так и пошло пред ним путаться».
Поэтому, например, на покупку недвижимости я за свои 20 лет в Америке был подвигнут только дважды. Первая из них была облегчена той атмосферой почти соборной заботы, которой мы, новоприбывшие из-за железного занавеса, были окружены в тесно сплоченной Итаке. Получив в Корнелле tenure и подталкиваемый домовитой женой, я нехотя, но все же решился, а все остальное взяла на себя популярная среди корнелльской профессуры агентша по торговле недвижимостью Кит Лэмберт.
Покупка дома в штате Нью-Йорк — не фунт изюма, тем более на новенького; это массированная операция, вроде высадки в Нормандии. Но постепенно дело завертелось, и через какоето время мы остановили выбор на очень нам понравившемся, хотя и великоватом доме, после чего пошли всевозможные переговоры с агентшей, владельцами, их юристом, нашим юристом, работниками банка, различными инспекторами и т. п., а также хождение в гости ко многим из названных персонажей и к принявшим в нашем деле заботливое участие коллегам и знакомым.
Из людей, с которыми я столкнулся в этом светскокоммерческом водовороте, мне запомнился юрист по фамилии Буюкас — коренастый седой грек с выразительным профилем. Я с ходу, пользуясь остатками своих познаний в турецком языке, поддел его, спросив, почему же он, грек, носит фамилию турецкого происхождения (buyuk — по-турецки «большой»). Он охотно отпарировал, сказав, что его предок так успешно боролся с турками, что заслужил у них уважительное прозвище Большака.