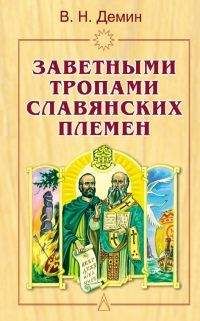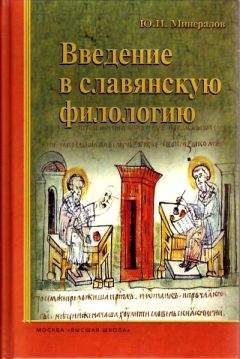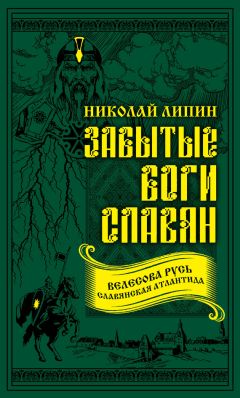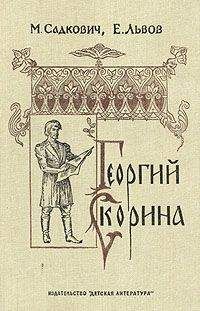Ладислав Баллек - Помощник. Книга о Паланке
Речан очнулся. Кто-то окликает прачку из-за забора. Голос ему знаком. Да это аптекарь Филадельфи. Вечно бегает за ней, надоедает, преследует.
Когда-нибудь он на этого типа донесет!
Прекрасное видение исчезло, и у него теперь точно такое чувство, как тогда, когда мальчиком он бежал по лугу и наступил босой ногой на косу.
Он только робко мечтает об этой девушке. Он думает о ней почти как старший брат или отец. Ему хотелось бы посидеть рядом с ней, облокотиться о дерево и слушать ее. Она бы что-нибудь рассказала ему… он снял бы свои тяжелые сапоги, босиком побродил бы по свежей траве, потом лег бы, вытянулся и заснул. Если она ему и снилась, то по большей части у ручья, где-то в лесу, утром, на заре. Чаще всего так, хотя бывали и более откровенные сны.
Он мечтал о нежности и холодном ручье, прозрачном и чистом.
Он не мог привыкнуть к враждебности своей семьи, как все еще не привык и к южной духоте, тучам мух, пыли, к странному и грустному южному пейзажу, бесконечному, монотонному лягушачьему концерту, который вечер за вечером долетал сюда со стороны болот вместе с тучами комарья.
На этих улицах было немало мужчин, которые из-за Нелы не могли спокойно сидеть на месте и думать о собственных женах.
— Выходит, с тобой, божий человек, каши не сваришь…
Он судорожно повернулся к лестнице. Там стояла жена.
— Что я, белены объелся? — набросился он на нее. — Не допущу, чтобы меня упрятали в каталажку! Чего ты злишься? По-моему, у тебя есть все, так что оставь это и уймись! Ох, уж больно высоко вы метите! А в котором часу, интересно бы узнать, вы вернулись с этого… с курорта? Мне что, в этом доме уже ни о чем не говорят?
— Подожди, придет время, — ответила жена спокойно, хотя кипела от злости, — и тебе действительно ничего не будем говорить… а то ты сразу начинаешь прыгать, будто тебя кольнули в задницу. Значит, опять начинаешь… Опять, значит, показал, что ты хозяин, опять показал себя… А почему тебя волнует, где мы с Эвой были? Да, нам приходится одним бывать на людях… ты ведь даже не соизволишь прилично одеться… а позорить себя, Штевко, мы не позволим. Я это уже говорила тебе. Так что вернулись мы, милок, ночью, потому что нам было весело. Не волнуйся, мы были там с подругами. Не бойся, я за дочерью присмотрю получше, чем ты. А что? По-твоему, я должна сидеть дома в четырех стенах и дожидаться, пока сюда забредет какой-нибудь зятек? Или ходить вместе с тобой?.. — Она показала на его одежду. — Ты бы пошел с ней вот в таком виде?
— Ну ладно, ладно… Мне что, ходите, развлекайтесь, но возвращаться ночью?! И мне ни слова!
— Тебя, кажись, снова забирает твоя мерзкая хворь? Снова начинаешь ревновать, а? У тебя, что же, мало было из-за этого неприятностей? Ты опять готовишь дочке новую беду? А? Опять тебе захотелось?
— Да, говорю тебе… хватит, уймись, — отозвался он, больно задетый намеком, — поразвлечься надо, только прилично… прилично… а так я, ты ведь сам знаешь, ничего против не имею, ходите…
— Ну так чего же ты хочешь?
— Хочу, чтобы мы здесь жили достойно. Как когда-то, когда про меня говорили, что я торговец, с которым в честности никто не сравнится. И вы с Волентом не будете больше водить меня за нос и кормить баснями. Я не желаю все время жить в страхе. Теперь я за всем следить начну сам.
— Добро, — сказала жена совсем спокойно, почти равнодушно. — За чем ты хочешь следить? Волент плохо торгует?
— Плохо? Этого я не говорил…
— Или я плохо веду бумаги? — Речанова не поддалась панике. — Наши счета, мой дорогой, может самый что ни на есть дотошный налоговый инспектор вертеть хошь так, хошь этак, как ему вздумается. А в общем, можешь с бумагами возиться сам, посмотрим, как это у тебя получится. Сделай одолжение.
Он остыл. И даже не пытался скрыть этого. На него наводил ужас самый ничтожный чиновник. Нет, с властями он обращаться не умел. А она — наоборот. И почерк у нее был красивее, и в бумагах она разбиралась намного лучше, их ужасный чиновничий язык ей был ясен: выписывала чеки, составляла заявления, вела переписку, запросто могла выхлопотать что надо в налоговом управлении, в страховой компании, в банке, мясник во всем этом полагался только на нее, в особенности если приходил чиновник из Экономического контрольного управления, страховой агент, санинспектор или ветеринар. На нее и на Волента. Во время таких визитов он тут же терял присутствие духа и дар речи. Всех посетителей и гостей Волент вел к ней. И она принимала их дома и морочила им голову. И все уходили довольные и не с пустыми руками. Как, к примеру, Дюряк из управления, который на бойню только заглянул и тут же сам отправился наверх.
— Против этого я не возражаю. Признаю, что ты лучше разбираешься в делах, — начал он нехотя, — но то, что у тебя все в порядке, еще ничего не значит… В один прекрасный день у него что-нибудь обнаружат, на чем-нибудь его накроют, кто-нибудь донесет… и мы сядем в лужу. К нашему дому подъедет машина, из нее выйдут господа с дорогими портфелями… и начнется. «А это у вас откуда? Это стоит столько-то, это — столько, дом, грузовик… откуда у вас все это, если вы назвали столько и столько? И что ты тогда будешь делать, а? Вашего приказчика поймали жандармы на такой-то незаконной сделке… Пани Речанова, это запрещено, и вы знали об этом. Пан Речан, вы отвечаете за бойню, вам ее доверили… Приказчик тут ни при чем. Он — помощник, а помощник делает только то, что ему прикажет мастер». Ну? Что ты тогда запоешь? Что запоешь, когда нам запретят вести собственное дело, заберут бойню, как кое с кем уже случилось?
— Штефан, — прервала его жена, — я тебе свое сказала. Я тебе сказала, что ты здесь только и знаешь, что охаешь да ахаешь. Если бы мы поступали по-твоему, так и сейчас были бы голые-босые, как сюда прибыли. И вот что! Я к тебе не за этим пришла. Делай, как знаешь. С тобой каши не сваришь, бог мне свидетель, не сваришь. Ты просто трусяга с букетом, как говорит Шуткова. Ты только и знаешь, что дрожишь, как та осина, которая не хотела Иосифа с Марией и маленьким Христосиком спрятать от войска Ирода. Ну и трясись! Мне все это… вот… — Она показала себе на горло. — Ты думай о своих страхах, а я буду думать о дочери. А то, может и мне о ней думать не надо? И вообще ни о чем? Или только о себе, как ты?
Повернулась и пошла вниз по лестнице.
— А тебе все мало? — крикнул он ей вслед. — Хоть бы вы поменьше хвастали, что у вас всего без счету!
Злость его улетучилась. Осталась неуверенность и сознание, что он всех троих обозлил. Отступать он не хотел и сделать по-ихнему не намеревался, а то страх бы его замучил, хотя он мучился и без этого.
Господи, теперь они будут долго-долго в ссоре, будут коситься друг на друга, делать все назло. Не он, конечно, а они ему. Все трое. Но он не уступит. Больше нет. Это решение придаст ему хотя бы немного бодрости. Жена с Волентом будут поменьше зазнаваться.
Речан нагнулся в дверях, как будто к собаке, спящей под крыльцом лавки, а сам осмотрел обе стороны тротуара. Слава богу, из соседних лавок никто не выходит, там, дальше, по направлению к реке, двое мужчин стоят перед аптекой, но он им, даже выпрямившись, не будет виден за опущенной над окном витрины шторой.
Он вынул из кармана зернышко кукурузы и бросил в столб. Не попал и от неожиданного волнения чуть не начал икать. Что это значит? Чего он испугался? Почему с таким испугом осознал, что не попал? Задумался и покраснел. Встал между дверями лавки так, чтобы не торчали на улицу носки его сапог и козырек картуза, и бросил снова. Раз. Второй. Третий… Безуспешно… Зернышки бесшумно падали на мостовую, пропадая в толстом слое серой пыли, оставались только маленькие воронки, на которые он смотрел с удивлением. Тихо застонал, как будто это было невесть какое важное дело. И как человек смиренный, которому изменило везенье, тихо забормотал:
— Ой, Штевко, не жди добра! Ничего хорошего это не предвещает.
Что ему, сдаться? Опустил голову и замер. Медленно поднимая плечи, отсчитал про себя до десяти. Нужно собраться с мыслями! Он суеверен! И не может отступить от своего намерения, смысл которого, собственно говоря, понял только сейчас: он должен хотя бы три раза попасть в этот столб. Должен! Он знает себя: иначе вечером ему бы не сиделось на месте, он бы тяжко засыпал, мучился разными ужасными предчувствиями, а потом снами. Господи, каждую глупость он считает дурной приметой. Что, в самом деле, на него наехало? Что-то в нем происходит непонятное…
— Господи Боже, чего ты хочешь от меня? — забормотал Речан себе под нос. — Штево, старый ты хрен, чего ты дуришь?! Боже, сладкий Боже, ведь в этом же нет ничего страшного!
Принесли эти слова облегчение? Облегчение? Ни в коем случае. Он повертел головой. Чего он такой упрямый, неуступчивый… Смешной, смешной человек… Разве взрослый так себя ведет? Ведь он же серьезный мужик! И всегда был что ни на есть самый серьезный.