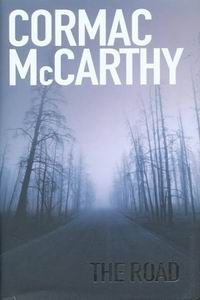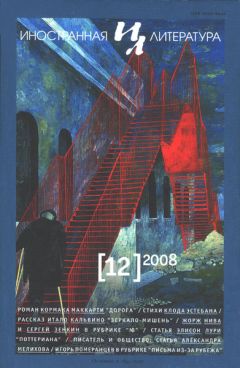Дзюнпэй Гомикава - Условия человеческого существования
Митико не спалось. Хотелось, чтобы рядом был Кадзи. Ясуко не шевелилась, даже дыхания ее не было слышно.
Небо за окном иногда окрашивалось в багряный цвет, словно на него плескали кармином, — это на металлургическом заводе плавили сталь.
Напряженным взглядом Митико всматривалась в темный потолок. Шумный вздох вырвался из ее груди.
— Сказано тебе, не принимай к сердцу, — сказала вдруг Ясуко.
— Я не принимаю… Просто думаю.
Что сейчас делает Кадзи там, в горной глуши, за сотню километров? Может, еще сидит в отделе за своим столом и, утопая в бумагах, о чем-то напряженно размышляет? А что он сегодня ел? Митико вспомнила ту весеннюю ночь, когда она, спрятавшись в тени, поджидала Кадзи у конторы. Какая это была чудесная ночь!
— Напомни, как это ты выразилась? Биться рядом и не отступать даже в безвыходном положении…
— Не знаю, но мне кажется, надо так… Если бы я была на твоем месте…
Митико напряженно ждала, что еще скажет Ясуко.
— Помнишь, ты, если не ошибаюсь, внимательно читала ту его докладную записку, когда ее перепечатывала?
— Да, читала, но ничего тогда не поняла.
— А теперь ты говоришь с ним о его работе? Читаешь, что он пишет, предлагает?
— Нет. Он воспринимает это чуть ли не как желание ему помешать.
— Ну, если бы я была на твоем месте… — И Ясуко опять умолкла.
— Ты не позволила бы ему так думать?
— Да. Если бы, скажем, он писал букварь, я настойчиво спрашивала бы его о буквах до тех пор, пока он не объяснил бы мне все. А когда объяснит простое, потом объяснит и сложное. И усталость тут ни при чем, пусть не играет на ней. А если не хочешь одним воздухом дышать с женой, нечего было жениться. Когда у Кадзи отрывается пуговица, ты, верно, пришиваешь ее на прежнее место? Так должен и он. Вот ты чего-то не знаешь, в этом месте у вас не ладится, он и должен «пришить пуговицу» на место. Только так должно быть у вас. У тебя, Мити, много «пуговиц» оторвалось, а ты и не просишь их пришить. Я бы ему так сказала: где сама могла пришить, я пришила, а вот здесь не могу сама, пришей, пожалуйста, ты.
Митико слушала подругу, затаив дыхание.
— Я одинокая женщина, поэтому и фантазирую. Ты слушай и не обижайся. Если я встречу человека и почувствую, что это он, я сразу начну с азбуки, с первой буквы. И ничего, что ему на первых порах это покажется нудным. Ведь я, можно сказать, ничего не знаю, у меня нет никакого опыта, и я не постесняюсь начать все с начала.
Митико хотела было ответить: «Если бы это было возможно, наша жизнь стала бы иной. Только на практике не все так получается. Конечно, когда получается, тогда в семье царит мир и покой…» Но она промолчала.
А Ясуко, повернувшись на спину, продолжала:
— Ты видишь Кадзи таким, каким он приходит каждый день — усталым, с ворохом идей в голове, издерганным всякими противоречиями, и тебе это все не нравится. Ты хочешь видеть его всегда, так сказать, в идеальной форме. А как же быть, если и у него что-то не ладится? Ведь у него тоже есть своя азбука.
Митико горестно вздохнула.
— Кажется, я опять наговорила лишнего? — И Ясуко протянула подруге руку.
Митико стиснула протянутую руку и покачала головой.
На небе опять запылала багряная заря.
Митико бросило в жар, ей стало трудно дышать. Она приподнялась и уселась на постели, поджав ноги. И вглядываясь в ночь, она взывала к Кадзи: «Как только рассветет, сейчас же поеду к тебе. Дай мне разделить твою ношу. Я буду идти рядом, и мы найдем выход. Все, все рассказывай мне. А если сам всего не понимаешь, то говори столько, сколько понимаешь. И если ты что-нибудь сделаешь неправильно, все равно расскажи об этом. Потому что я буду вместе с тобой и в этом твоем поступке. Только не думай, что эта ноша мне будет тяжела. Молю тебя, не оставляй меня одинокой, если ты меня любишь. Если ты сам мучишься, позволь и мне мучиться вместе с тобой, и это будет доказательством твоей любви ко мне».
16В осеннюю полночь воздух полнится жужжанием и стрекотом мириад насекомых. Это не погребальное пение, оплакивающее эфемерность существования, нет, это жизнеутверждающий гимн, воспевающий красоту и силу жизни. Правда, он кажется печальным, но это уже зависит от восприятия, ведь в душе человека есть еще много печальных струн.
Кадзи не хотелось идти домой — там без Митико было пусто, как в пещере. Он бродил вокруг колючей проволоки и слушал пение цикад. Он был обут в дзикатаби (грубые матерчатые носки), шагов его не было слышно.
Зачем он здесь бродит? Неужели побеги спецрабочих сделали его подозрительным?
Он старался обходить места, освещенные электрическими фонарями, и шел не по тропинке, а густой травой. Когда он шел, цикады под ногами умолкали, но как только он останавливался, насекомые снова затягивали свою трескучую песню, которая, казалось, неслась из-под земли. С черного неба сорвалась звезда. Соседние звезды будто проводили ее взглядом и тихо вздохнули.
Странное времяпрепровождение — наблюдать за звездами, сидя в траве у колючей проволоки, и проникаться мировой скорбью, но Кадзи, видимо, думал не об этом.
С каждым днем ночи становились все холодней, нетерпеливая зима была уже не за горами. Потирая озябшие руки, Кадзи перевел взгляд на барак. Окна барака светились тусклым желтым светом. Этот свет был свидетелем всему: и любовным утехам, и сонному бреду, и побегам.
Кадзи представил себя запертым в этом бараке. Смог бы он, сидя там, сохранить в себе ту холодную ненависть, какую сохранил Ван Тин-ли? Что там говорить! Конечно, нет. В лучшем случае, он бы бестолково сопротивлялся кое-чему, а вернее всего, угодливо ловил бы взгляды надзирателей, выказывая им полную покорность. Но в таком случае выходит, что Ван на голову выше его, Кадзи. Ван своими глазами видел, как японские солдаты изнасиловали его жену и глумились над ее мертвым телом. И написал Ван об этом совершенно спокойно и этим бросил вызов ему, Кадзи. Вот, смотрите, это дело рук ваших соотечественников, вашей Японии, провозгласившей лозунг о процветании и содружестве пяти наций. А Кадзи, едва представив себе, что такое могло случиться с его женой, уже испытывал бешенство. Нет, он не способен на такое мужество, чтобы взять у врага бумагу и писать об этом. А Ван это сделал. Он смеется над Кадзи с высоты своего презрения.
Внезапно стрекот цикад прекратился. В одном месте мрак сгустился; темное пятно странно колебалось. Что там такое? Высунувшись из травы, Кадзи огляделся. Мышцы тела напряглись, по телу пробежали мурашки. К нему кто-то шел. Кадзи принял удобную позу, чтобы в любую минуту можно было вскочить, и не спускал глаз с приближающейся фигуры. Сердце у него заколотилось сильнее.
Человек прошел мимо Кадзи, не заметив его. Это была женщина — маленькая, изящная женщина. Кадзи ощутил запах духов.
Женщина подошла поближе к колючей проволоке и, по-видимому, села — ее не стало видно. Осторожно, стараясь не шуметь, Кадзи пополз в ту сторону. Прошло минут десять, женщина продолжала сидеть. Цикады опять запели до звона в ушах. Женщина поднялась. Кадзи застыл на месте. За проволокой с внутренней стороны показалась тень мужчины.
— А я боялась, что ты уже сбежал, — послышался высокий голос женщины.
Чунь-лань! Вместе с этой догадкой к Кадзи пришло и спокойствие. Чунь-лань бросила что-то за ограду.
— Больше купить не смогла.
Верно, еда. Молча, без единого слова мужчина зашуршал бумагой и стал есть. Было слышно, как он чавкал.
— Как подумаю о тебе, вся горю… — Женщина приблизилась к самой проволоке, Кадзи вздрогнул. — Если ты сбежишь один — запомни, я брошусь на эту проволоку.
— Не бойся, — твердо ответил низкий мужской голос. Это был Гао. — Если побегу, обязательно тебя захвачу.
— А когда?
— Да все думаю…
Но тут их тени вдруг растаяли в темноте. На дороге в свете фонаря показались два охранника, шедшие с обходом. Дорога в этом месте постепенно удалялась от ограды, и охранники, не желая идти по мокрой от ночной росы траве, повернули назад.
И опять Гао сказал из мрака:
— От той группы нет никаких вестей, поэтому опасно пока брать тебя.
— А долго еще ждать? — голос Чунь-лань дрогнул. — Может, японцы выпустят тебя и разрешат нам пожениться.
— Как же, жди! Не верь ты этому. Но Ван говорил, что война скоро кончится. Японию разобьют. Эти мерзавцы поднимут руки вверх. Если до этого нас не убьют, тогда мы поженимся.
Женщина что-то тихо сказала. Гао хриплым голосом ответил:
— Раз ты здесь, и я вытерплю… Хотелось бы каждый вечер видеться, но лучше не приходи так часто. Увидят — тогда конец.
Через некоторое время Чунь-лань поднялась. Кадзи услышал ее полный отчаяния и страсти шепот:
— О-о, эта проклятая проволока!
— Ну, уходи, пока нет патруля, — пробормотал Гао, — да смотри, осторожней!