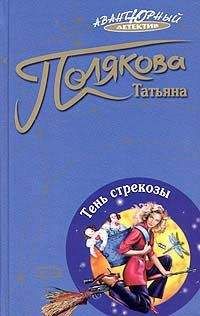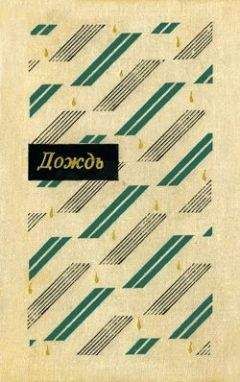Невил Шют - Крысолов
Немец долго, пристально смотрел на него.
— So, — сказал он наконец. — Вы ловкач, мистер англичанин. Вы добились всего, чего хотели.
— Так же, как и вы, — сказал старик.
Немец отложил пистолет и взял листок бумаги.
— Какой ваш адрес в Англии? Я пришлю за вами в августе, когда мы будем в Лондоне.
Они обсудили все до мелочей. Четверть часа спустя майор Диссен поднялся из-за стола.
— Ни слова об этом никому, — повторил он. — Завтра вечером вы отсюда уедете.
Хоуард покачал головой.
— Я не скажу ни слова. Но я хочу, чтобы вы поняли одно. Я все равно охотно взял бы вашу девочку. Мне и в голову не приходило отказаться.
— Это хорошо, — сказал гестаповец. — Откажись вы, я пристрелил бы вас на месте. Было бы слишком опасно выпустить вас из этой комнаты живым.
Он сухо поклонился.
— Auf Wiedersehen,[111] — сказал он насмешливо и нажал кнопку звонка на столе.
Дверь отворилась, и часовой отвел Хоуарда по мирным, освещенным луной улицам в тюрьму.
Николь сидела на своей постели и ждала. Как только дверь закрылась, она подошла к нему.
— Что случилось? Вас там мучили?
Старик потрепал ее по плечу.
— Все в порядке, — сказал он. — Ничего такого со мной не сделали.
— Так что же произошло? Чего от вас хотели?
Хоуард сел на тюфяк, Николь подошла и села напротив. Светила луна, в окно проскользнул длинный серебряный луч; откуда-то слабо доносилось гуденье бомбардировщика.
— Послушайте, Николь, — сказал Хоуард, — я не могу рассказать вам, что произошло. Скажу только одно, а вы постарайтесь сразу это забыть. Все обойдется, Очень скоро мы поедем в Англию — все дети и я тоже. А вас освободят, вы вернетесь в Шартр к вашей маме, и гестапо не станет вас беспокоить. Вот так оно теперь будет.
— Но… — Николь задохнулась. — Я не понимаю. Как это удалось?
— Этого я вам объяснить не могу. Больше я ничего не могу сказать, Николь. Но так будет, и совсем скоро.
— Вы очень устали? Вам нездоровится? Это все правда и вам только нельзя рассказать мне, как все устроилось?
Хоуард кивнул.
— Мы поедем завтра или послезавтра.
Он сказал это так твердо, так убежденно, что Николь наконец поверила.
— Я очень, очень рада, — тихо сказала она.
Они долго молчали. Потом девушка сказала:
— Пока вас не было, я сидела тут в темноте и думала, мсье. — В слабом свете старик видел ее профиль, она смотрела в сторону. — Кем-то станут эти дети, когда вырастут. Ронни… мне кажется, он станет инженером, а Маржан солдатом, а Биллем… может быть, юристом или врачом. Роза, конечно, будет примерной матерью, и Шейла, может быть, тоже… или, пожалуй, она станет деловой женщиной, у вас в Англии таких много. А маленький Пьер… знаете, что я о нем думаю? По-моему, он будет художником или писателем, будет увлекать своими идеями многих и многих людей.
— По-моему, это весьма вероятно, — сказал старик.
— С тех пор как Джон погиб, мсье, я была в отчаянии, — тихо продолжала девушка. — Мне казалось, в мире нет ни капли добра, все на свете стало безумно и шатко и гнусно… бог умер или покинул нас и предоставил весь мир Гитлеру. Даже эти малыши обречены страдать без конца.
Она умолкла. Молчал и Хоуард.
— Но теперь мне кажется, я начинаю понимать, что в жизни есть смысл, — вновь заговорила Николь. — Нам с Джоном не суждено было счастья, кроме той недели. Нам предстояло совершить ошибку. Но теперь, через меня и Джона, спасутся дети, уедут из Европы и вырастут под мирным небом… Может быть, для того мы с Джоном и встретились, — продолжала она чуть слышно. — Может быть, через тридцать лет весь мир будет нуждаться в ком-нибудь из этих малышей… Может быть, Ронни, или Биллем, или маленький Пьер сделает для всех людей что-то очень важное, великое… Но так случится потому, что я встретилась с вашим сыном, мсье, хотела показать ему Париж, и мы полюбили друг друга.
Старик перегнулся к ней, взял за руку, и они долго сидели так в полутьме. Потом легли на свои тюфяки и лежали без сна до рассвета.
Следующий день, как и накануне, провели в саду. Детям делать было нечего, они заскучали, маялись, и Николь почти все время старалась их как-нибудь занять, а Хоуард дремал в кресле под деревом. День проходил медленно. В шесть часов подали ужин; потом все тот же официант убрал со стола.
Николь с Хоуардом начали готовить постели для детей. Ефрейтор остановил их; не без труда он дал им понять, что они отсюда уедут.
Хоуард спросил, куда уедут. Немец пожал плечами.
— Nach Paris?[112] — сказал он неуверенно. Он явно ничего не знал.
Полчаса спустя их вывели и посадили в крытый фургон. С ними сели двое немецких солдат, и машина тронулась. Старик пробовал расспросить солдат, куда их везут, но те отмалчивались. Немного погодя из их разговоров между собой Хоуард уловил, что солдаты получили отпуск и направляются в Париж; видимо, заодно им поручено в дороге охранять арестованных. Похоже, что слух о Париже верен.
Понизив голос, старик обсуждал все это с Николь, а машина, покачиваясь, увозила их от побережья в глубь страны, и теплый вечерний ветерок колыхал листву деревьев по обе стороны дороги.
Потом подкатили к окраине какого-то города. Николь выглянула из окошка. И чуть погодя сказала:
— Это Брест. Я знаю эту улицу.
— Брест, — кратко подтвердил один из немцев.
Подъехали к вокзалу; пленников вывели из машины. Один страж остался при них, другой пошел к железнодорожному начальству; французы-пассажиры с любопытством разглядывали необычную компанию. Потом их провели за барьер, и они вместе со своими страхами оказались в вагоне третьего класса, в поезде, который, по-видимому, шел на Париж.
— А в этом поезде мы будем спать, мистер Хоуард? — спросил Ронни.
Старик терпеливо улыбнулся.
— Тогда я имел в виду не этот поезд, но, может быть, нам и придется здесь спать, — сказал он.
— И у нас будут маленькие кровати? Помните, вы говорили?
— Не знаю. Увидим.
— Мне хочется пить, — сказала Роза. — Можно мне апельсин?
На платформе продавали апельсины. Денег у Хоуарда не было. Он объяснил одному из солдат, чего хочет девочка, тот вышел из вагона и купил для всех апельсины. Через минуту все они сосали апельсины, и еще вопрос, кто при этом чмокал громче, дети или солдаты.
В восемь часов поезд тронулся. Он шел медленно, останавливался на каждой маленькой станции. В восемь двадцать он остановился в местечке под названием Ланиссан, тут всего-то было два домика да ферма. Вдруг Николь, смотревшая в окно, обернулась к Хоуарду.
— Смотрите! — сказала она. — Вот майор Диссен.
Офицер гестапо, щеголеватый, подтянутый, в черном мундире и черных походных сапогах, подошел к двери их вагона и открыл ее. Солдаты вскочили и вытянулись. Он что-то властно сказал им по-немецки. Потом обратился к Хоуарду.
— Выходите, — сказал он. — Вы не поедете дальше этим поездом.
Николь и Хоуард вывели детей на платформу. В ясном небе солнце уже клонилось к холмам. Гестаповец кивнул проводнику, тот захлопнул дверь вагона и дал короткий свисток. Поезд тронулся, вагоны проползли мимо и медленно покатились дальше. А они остались стоять на маленькой платформе, среди полей, одни с офицером гестапо.
— So, — сказал он. — Теперь следуйте за мной.
Он пошел впереди, спустился по дощатым ступеням на дорогу. Тут не было ни контролера, ни кассы; маленькая станция безлюдна. Позади нее в проулке стоял серый закрытый грузовик-«форд». За рулем сидел солдат в черной гестаповской форме. Рядом с ним — ребенок.
Диссен открыл дверцу и помог ребенку выйти.
— Komm, Anna, — сказал он. — Hier ist Herr Howard, und mit ihm wirst du zu Onkel Ruprecht gehen.[113]
Девочка удивленно посмотрела на старика, на стайку детей и на растрепанную девушку. Потом вскинула тощую ручонку и пропищала:
— Heil Hitler!
— Guten Abend,[114] Anna, — серьезно сказал старик и, слегка улыбаясь, повернулся к майору. — Если она поедет в Америку, придется ей отвыкнуть от этого обычая.
Диссен кивнул.
— Я ей скажу.
И заговорил с девочкой, глаза у нее стали круглые от изумления. Она озадаченно что-то спросила. Хоуард уловил слово «Гитлер». Диссен снова стал объяснять; под испытующими взглядами Хоуарда и Николь он немного покраснел. Девочка что-то сказала так громко, решительно, что шофер обернулся и вопросительно посмотрел на своего начальника.
— Я думаю, она поняла, — сказал Диссен.
Хоуарду показалось, что он несколько смущен.
— Что она сказала? — спросил старик.
— Дети не способны понять фюрера, — был ответ. — Это дано только взрослым.
— Все-таки объясните нам, мсье, что сказала ваша девочка? — спросила Николь.
Немец пожал плечами.
— Детская логика мне непонятна, — ответил он тоже по-французски. — Анна сказала, что рада, что ей больше не нужно говорить «Хайль Гитлер», потому что у фюрера усы.