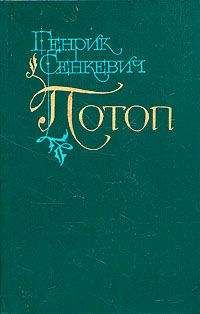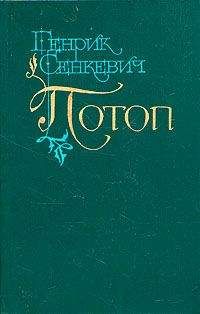Игорь Ефимов - Архивы Страшного суда
— Я знаю, знаю. Соображения безопасности, риск для вас. Могут похитить, попытаться использовать для других целей или создадут другой архив. Все это мне понятно. Он вложил в Архив огромные деньги. Он вправе рассчитывать вернуть их с прибылью. Но не было еще в истории случая, чтобы кто-то смог завладеть важным открытием навечно. Рано или поздно им начнут пользоваться и другие.
— Он ведь боится не только конкуренции, не только финансовых потерь. Может начаться такой разгул шарлатанства и всякого жульничества, что вся идея будет мгновенно дискредитирована.
— Именно поэтому мы должны спешить с научными проверками. Чтобы иметь в руках факты, эксперименты, доказательства.
— А если все результаты будут отрицательными? — тихо спросила Лейда.
Отец Аверьян насупился, переглянулся с женой.
— Меня это не обескуражит. Ошибка в направлении — только и всего. Главное звено останется неуязвимым: мы должны рыть толщу времени навстречу воскрешающим нас. Ошибаться, искать, исправлять ошибки, но ни в коем случае не терять веру. Впрочем, насколько я понимаю, вам-то предстоит сперва гораздо более трудное. Обрести ее.
Лейда промолчала.
— Вопрос в том, хотите ли вы этого?
— Не знаю. Иногда очень. Иногда мне кажется, я очень близка. Иногда чувствую необъяснимый страх.
— Вы никогда не бываете на моих проповедях.
— Но я читала многие потом в нашем журнале. И я искренне восхищаюсь и завидую вашей вере.
— И вы чуть ли не единственная из служащих Архива, кто не воспользовался предоставляемой льготой: бесплатно сдать каплю крови и дело жизни на хранение.
— Я еще не готова к этому. Мне кажется, раньше должна прийти вера.
— Один мой знакомый священник проповедовал однажды перед пригласившими его учеными. Он уговаривал их креститься. Они говорили, что не понимают, как можно принять обряд крещения, не веря в Бога. Ведь это будет лицемерие. Он пытался объяснить, что вера есть чудо и благодать, а крещение — таинство, которое и призвано помочь снисканию благодати. Они всё не понимали. Тогда он привел сравнение — весьма кощунственное, но оказавшееся понятным им. «Божество — как женщина, — сказал он им. — Оно застенчиво. Оно ждет, чтобы вы сделали первый шаг».
— Да, я понимаю. Но что-то во мне еще не созрело для этого.
Попадья Ирина взяла кувшин, долила воды в стоявшие на окне цветы.
— Вчера я видела одну семью. Они привезли с собой девочку двенадцати лет, больную лейкемией. Как вы думаете, ее кровь сможет сохраниться?
— О, тут понадобятся специальные исследования. И боюсь, очень длительные.
— Родители не знают, что такие исследования еще не проводились. Но я видела лица всех троих, когда они шли от Архива к стоянке машин. Они были счастливы. Смеялись. Они верили, что встретятся друг с другом после воскресения. Что просто девочка отправится в долгое путешествие раньше них.
— Есть тысячи семей с такими же трагедиями, которые не смогут выложить десять тысяч за это путешествие.
— Любое лекарство поначалу стоит очень дорого. Я говорю не об этом, а о надежде. Пусть вы не верите в обещанное чудо воскресения, но в надежду-то вы верите? В ту, которая уже сегодня? Которую мы видим в тысячах горящих глаз? Которую мы дарим сотням тысяч людей?
— А проснувшийся страх Божий? — сказал отец Аверьян. — Этот трепет, с которым люди начинают перечитывать свою жизнь, смотреть на свои поступки? А эта жажда искупить, заслужить? «Дом покаяния» еще не открылся, но очередь в него уже — на сколько, Ирина?
— На три месяца вперед.
— Неужели вас не захватывает эта волна, этот поток, это возрождение веры?
— Захватывает. Очень. Может, поэтому я и сопротивляюсь. По привычке всей жизни пытаюсь плыть поперек.
Все трое замолчали ненадолго. Слабое стрекотание машинки выплыло из-за дверей, заполнило тишину. Мыслители и святые испытующе и недружелюбно глядели с портретов.
— Мы не хотим вас торопить, не хотим толкать на что-то против вашей воли, — сказал отец Аверьян. — Мне только хотелось, чтобы вы знали: как только почувствуете себя готовой продолжать исследования, можете сразу прийти ко мне. Вместе мы убедим синьора Фанцони, добьемся его согласия, выделения денег, сотрудников, помещения для лаборатории. И с любым другим — тоже приходите. Как-никак мы ведь тут — единственные соплеменники.
Тон его был мягким и приветливым, но лицо — Лейда, выходя, заметила это — было гневно насупленным и красным сильнее обычного.
Секретарь, улыбаясь, протянул ей телефонную трубку.
— Лейда? — Голос Умберто звучал виновато, чуть ли не заискивающе. — Ну что?
— Все нормально. Мы просто поговорили о жизни, о работе… о вере…
— Не знаю, что на меня нашло утром. Эта истерика, которую я вам закатил… Такая мерзость… Ни с того ни с сего… Кричал и сам себе был противен…
— Я тоже, наверно, не должна была приставать с пустяками… Тоже нервы сдают…
— Знаете, иногда мне начинает казаться, что все эти тонны людских грехов, и мерзостей, и покаяний, и горечи, которые накапливаются у нас в подвалах, начинают испускать какие-то вредоносные пары… Что все мы дышим этими парами и безнадежно отравляем себя.
— Да-да, я понимаю… Что-то с нами происходит — это несомненно…
— Но вы понимаете также, — голос его стал почти нежным, — что чем я противнее себе сейчас, чем виноватее перед вами, тем больней мне захочется сделать вам в следующий раз?
Июнь, третий год после озарения, Кемь
Цепи натянулись, лебедка крана надсадно заревела. Пушечный ствол со всхлипом вырвался из своего гнезда, поплыл вверх, сверкая некрашеными частями, повис под потолком ангара. Илья забрался на лафет,
отер тавот, выискал нужную гайку, приладил к ней разводной ключ. Металл еще был налит густым ночным холодом, пальцы быстро немели. Напарник, матерясь, отвинчивал с другой стороны. Вдвоем они извлекли поврежденный накатник, переложили на тележку, отвезли к открытым воротам, поставили в середине солнечного ромба.
Капитан еще не появлялся с утра — можно было покурить и погреться.
Напарник, Коля Чешихин, постучал себя по карману гимнастерки черным пальцем:
— Матка письмо прислала. Пишет, плохая мода пришла в деревню. Опять топорами рубиться стали.
— Как это?
— Такое уже бывало раз. Перед самой войной. Наверно, и сейчас к войне.
— Да из-за чего рубятся-то?
— Так просто. И все между собой. Сначала Витя Полусветов на сестру осерчал: вытащил во двор, головой на колоду положил и хлоп! — косу ей оттяпал. А потом братья Кошкины промеж себя поругались, и младший старшего уже всерьез — руку перерубил. Суд был, закатали его, беднягу. Думали, испужается народ, перестанет, ан нет. Через неделю еще одного в лесу нашли насмерть зарубленным. И кто — неизвестно.
— Твои-то живы пока?
— То-то и оно, что не совсем. Дядька пришел домой пьяный, стал бузить, а тетка Груня, по моде этой проклятой, — хвать за топор. Ну дядька перепугался — бух ей в ноги и голову руками закрыл. А ей смешно стало. Она топор поставила незаметно, взяла валенок и тюк! — его по шее. Так что ты думаешь? Дядька от испуга речь потерял. Онемел совсем. Третий месяц уже слова выговорить не может. Ты не скалься, не скалься — какой тут смех.
Но Илья ничего не мог с собой поделать. История была в его вкусе. Ибо чем хуже и бессмысленнее люди терзали друг друга, тем больше теперь это казалось ему похожим на правду. Может, за всю свою доармейскую жизнь он не слышал и десятой доли того, что довелось ему услышать за два последних года. С какой-то злорадной готовностью он сдирал книжно-киношную пелену, залеплявшую раньше его сознание, и заслушивался рассказами про то, что люди делали друг с другом на самом деле.
Конечно, в солдатских байках много было и привирания, которое еще разгоралось на благодарного слушателя. Но много было и такого бессмысленно-дикого, что он чутьем ощущал: такое не придумаешь. Поэтому когда на экране телевизора в красном уголке очередной герой кидался в ледяную воду или в огонь спасать очередного ребенка, он скучал и уходил. А когда рассказывали про врача в местной психушке, который, по первой жалобе, клал солдата в больницу, а потом своими лекарствами доводил до того, что тот на коленях обратно в строй просился, — слушал с увлечением. Или вот совсем недавно в соседнем пехотном полку солдат-чеченец выкрал из караулки автомат, погнался за офицером-грузином, который его обидел, но тот уже куда-то уехал; так солдат ворвался в первую попавшуюся палатку и перестрелял всех, кто там был, без разбору — русских, молдаван, украинцев, литовцев. Или вот еще…
Э-э, да что там — истории. С ним самим что проделывали — с очкариком, с полуевреем, который двух матерных слов вместе связать не умел в первый год службы. Бесконечные наряды вне очереди по чистке гальюнов. Строевая муштра на потеху взводу: «Рядовой Ригель, бегом! ползком! передом! задом! — марш!» Ненасытные печи в казармах, которые ему надо было топить с четырех часов ночи, и мерзлые поленья в вязанках, раздирающие спину даже сквозь ватник. Канцелярские кнопки, насыпанные в сапог, кусок кала, спрятанный в мыльницу, похабное слово, написанное на лбу во время сна, белье, облитое керосином… Шутки про Абрама и Сару шли до тех пор, пока Илья не полоснул одного шутника газовой горелкой по животу. Чуть не загремел тогда в штрафбат, но как-то начальство решило замять, выдать за несчастный случай на производстве.