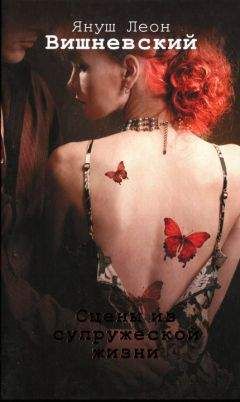Ольга Грушина - Очередь
Мало-помалу смятение стало убывать, крики стихли. Бородатый организатор двинулся вдоль очереди с ночным списком. Кто-то уселся на бордюр и стал раскладывать пасьянс; в ломком осеннем воздухе далеко разносились звуки карт, хлопающих по бетону, и голубиных крыльев, коротко хлопающих от подоконника к подоконнику, и хлопающих форточек — вечера холодали. После вспышки ярости Николай был непривычно молчалив. Только когда они отстояли половину своей смены, он заговорил:
— Не пойти ли нам пройтиться? Ноги размять. Ребята за нас откликнутся.
Голос его звучал как ни в чем не бывало, но что-то незнакомое, что-то тяжелое покоилось на дне его взгляда.
— Давай, — согласился Александр после секундного замешательства.
Николай с целеустремленным видом двигался сквозь темноту; Александр шел на два-три шага позади, еле за ним поспевая.
— Куда мы идем? — спросил он, когда они миновали несколько кварталов, хотя уже знал ответ.
Николай остановился, повернулся к нему лицом, схватил за плечи.
— У меня дочке шестнадцать годков, — свирепо выговорил он. — На пару лет моложе той девчонки. Такое спускать нельзя, это для нас дело чести, соображаешь?
Не дожидаясь ответа, он припустил вперед почти бегом.
Когда они прибыли к месту, улица оказалась безлюдной, киоск «Соловьев» был закрыт. Вывеска «БИЛЕТЫ» влажно поблескивала под фонарем, как будто ее только что покрасили и она еще не успела просохнуть; объявление в окне гласило, что выступление ансамбля «Елочки» состоится двадцать седьмого декабря, а предварительная продажа билетов начнется за неделю.
— Ну, вот. — Николай неторопливо закурил. — Давай здесь и присядем: глядишь, кого-нибудь подловим. У меня и бухло припасено, тряхнем стариной.
— Это можно, — сказал Александр без энтузиазма.
Но чуть позже, когда темнота стала такой непроглядной, что его все менее уверенные пальцы с трудом нащупывали бутылочное горлышко, он вжился в ночь, устроился поудобнее, откидываясь, как на памятном ему диване в спальном вагоне, и ночь вскоре тронулась с места, мягко покачиваясь, точно поезд, отправляющийся в дальний путь с вокзала, где Александр не бывал уже много месяцев, и полная октябрьская луна покатилась вагонным колесом с крыши на крышу. А через какое-то расстояние, или, может быть, время, он заметил, что этих прекрасных, дымчато сияющих колес, уносящихся в неведомые звездные края, стало два, и залюбовался, разинув рот, ликуя, что жизнь его была настолько переполнена сюрпризами, а потом — разом — опять все вспомнил. В душу вновь закралось тошнотворное подозрение, оно притормозило ночь, сплавило два сверкающих колеса в одну хилую, плоскую луну, дернуло у него внутри стоп-кран поезда, и путешествие с протяжным скрипом завершилось; тогда он помимо своей воли начал сбивчиво рассказывать Николаю про училку музыки, про концерт, которому не бывать, про смерть Селинского, настигшую его за каким-то письменным столом, в каком-то месте с инородным названием, в какой-то шальной точке земли, вот уже семь лет тому назад.
— Брехня, — хрипло выговорил Николай. — Триста человек не могут ошибаться. Дура твоя училка.
— Ты правда так считаешь? — вскричал Александр — и внезапно почувствовал, как внутри у него поддается и прорывается что-то неохватное, что-то яркое.
Он уткнулся лицом в плечо Николаю, и толстый ватник Николая дохнул папиросным дымом и, неожиданно, вкусной домашней едой, и Александр заплакал, и не мог остановиться, как плакал когда-то ребенком; он плакал об этой жизни, в которой никогда ничего не происходит, плакал о матери с отцом, и о Викторе Петровиче, который убил столько лет в надежде, что что-то наконец произойдет, но тщетно, потому что ничто никогда не происходило ни с кем из них; а потом, даже не поднимая головы, он понял, что и Николай плачет тоже, содрогается от тяжелых, но каких-то детский рыданий, и его срывающийся голос пробивается сквозь всхлипы откуда-то сверху:
— Веришь, нет, Сашка, я ведь… я ведь не собирался свой билет продавать, это для дочки, она у меня хворая, сильно хворая, вот я и подумал: надо бы ей послушать кого-нибудь знаменитого, великого — глядишь, поднимется, сделает шажок-другой, а там и на поправку пойдет, не зря же говорят, что музыка лечит… Киоскерша, сука, мы ее подмазать хотели, а она слушать ничего не желает, вот мы все и стоим в очереди, жена, шурин, он хоть и извращенец, но мужик душевный, поет хорошо… А эти уроды — ничего святого для них нет, последнюю надежду растопчут, а сами…
Он умолк, захлебнувшись мокрыми рыданиями, и Александра охватило небывалое тепло, неодолимое желание высказать этому человеку свою внезапно накатившую благодарность, свою вскипевшую в сердце привязанность. Он попытался найти нужные слова, но мысли то и дело разбегались, а потому он просто мягко высвободил бутылку из рук Николая, воздел ее к свету фонаря и объявил:
— Спасибо, друг, пойло высший сорт, не то что та отрава, которую я до тебя пил — она и гореть-то не горела.
Хлюпнув носом, Николай поднял голову:
— Как ты сказал?
— Спасибо тебе, говорю, я считаю, что ты… это самое… здорово, что мы с тобой можем… как это…
— Во-во. — Николай вскочил. — Это ты хорошо придумал. У тебя в сумке бумага есть?
Александр тупо и покорно смотрел, как Николай выворачивает его сумку. На землю выпали две книги, пара школьных тетрадей, которые он давно собирался выкинуть, и какие-то мятые клочки.
— На растопку. — Николай схватил тетради, отталкивая ногой все прочее. — Книжки последний босяк не тронет.
Листы в клетку и в линейку, испещренные учительскими пометками, были тут же скомканы; затем Николай плеснул из бутылки на заднюю стенку киоска.
— Тут фонарей нету, риска меньше, — ухмыльнулся он. — Интим.
Что было потом, Александр точно не помнил. Николай матерился, дул на пальцы, потому что спички, вспыхнув, шипели и гасли одна за другой, пока первый осторожный язычок огня не лизнул смятую страницу, потом вторую, и вдруг полыхнуло пламя, обдавшее их светом и жаром, и вверх взвилось что-то слепящее, неудержимое и гневное, точь-в-точь похожее на ту злость, которая вдруг завладела Александром: он злился на вранье, на очередь, на невозможность хоть что-то узнать наверняка, на неспособность разорвать прогнившие путы времени, тугие путы пространства, которые спеленали их всех, — но он-то вырвется, поклялся он себе, с хохотом убегая по улице вслед за хохочущим где-то во тьме Николаем, он-то вырвется, и жизнь его пойдет совсем по-другому, так или иначе пойдет по-другому, ярко и полнокровно, как… как яркая, полнокровная жизнь этого таинственного гения, Игоря Селинского, который вовсе не умер, а живет в свое удовольствие, но, конечно, не корпит за письменным столом, а пускается в необыкновенные, фантастические приключения… или как вот эти круглые, блестящие колеса, что катятся по небу, с каждой минутой приближаясь к далекому, залитому светом, шальному городу… или как то пламя, которое — вспомнил он — он где-то совсем недавно видел, полнокровное, яркое пламя, которое ближе к рассвету продолжало плясать у него перед закрытыми глазами, когда он засыпал в своей промозглой, тесной комнате.
Перед тем как провалиться в беспамятство, он вдруг сообразил, что книги Виктора Петровича, взятые в тот вечер, остались валяться на земле вместе с жалким содержимым его опустошенной сумки, и на миг ему сделалось не по себе. Но дурные предчувствия, единожды вспыхнув, тут же умерли, как очередная зашипевшая и погасшая спичка, и он тихо засмеялся в подушку, видя перед собой великолепное безумие огня, его насыщенный, ослепительно-красный цвет.
3Очень долго, целый час, если не больше, Сергей сидел на скамейке, изучая сложенный листок бумаги со скрипичным ключом на обороте. Записка была мятой, вытертой, растерзанной по краям. Она, видимо, написала ее несколько недель тому назад, попросила кого-то передать, но тот забыл; не исключено, что этот листок давно гулял по очереди, собирая плесень и крошки по чужим карманам и кошелкам, прежде чем оказаться у Саши в сумке. Прочесть ее Сергей не решался, боясь, как бы она не рассыпалась у него в руках, — во всяком случае, так он себе объяснял свое промедление.
Немного погодя он посмотрел на часы. С момента Сашиного ухода истекло пять минут. Он развернул записку, и мир вспыхнул жарким светом. Всего пара слов, без обращения, без подписи. «Заходите в любое время» было написано крупным, дрожащим почерком; она писала второпях — он это понял, — в очереди: наверное, подложила под листок нотной бумаги какую-нибудь книжку. Внизу стоял адрес. Строчки почти до неузнаваемости распял сгиб, однако номер квартиры все же уцелел — этот номер до сих пор постоянно всплывал у него перед глазами, преследуя воспоминанием о том, как однажды ночью в конце лета он разглядывал ее дверь в течение нескольких мучительных минут, когда топтался в полутьме у нее на площадке, чего-то ждал и не решался позвонить.