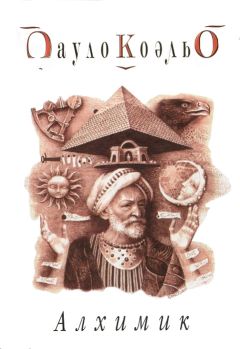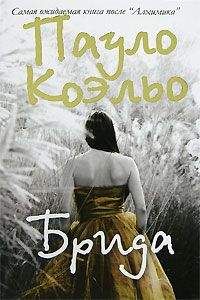Видиадхар Найпол - Территория тьмы
Чтобы сохранить это представление об Индии как о стране, по-прежнему цельной, не требовалось замалчивать исторические факты. Их следовало признавать — и не замечать; и только в Индии я сумел разглядеть в таком подходе часть индийской способности к отступлению, способности искренне не видеть очевидного: для других такой подход стал бы почвой для невроза, но для индийцев он лишь естественно входил в общую философию отчаяния, которая вела к бездействию, отстраненности, принятию. Лишь теперь, когда раздражение наблюдателя растворилось в процессе письма и копания в собственной душе, я понял, до какой степени я сам придерживался подобной философии. Ведь это она позволяла мне, долго живя в Англии и подвергаясь разного рода давлению, полностью устраняться от понятий о национальной принадлежности и испытывать привязанность лишь к отдельным людям; это она внушала мне, что достаточно быть лишь самим собой, своей работой, своим именем (а ведь последние так отличаются от первого); это она убедила меня, что каждый человек — остров, и приучила меня старательно оберегать все хорошее и чистое, что было во мне, от порчи причин.
А потому, наверное, я должен был сохранять покой, встречая напоминания об этой Англии в Индии. Но они обличали один тип самообмана как самообман; и хотя это происходило в той части сознания, где фантазия была допустима, такое разоблачение оказалось болезненным. Это была встреча с унижением, какого я никогда прежде не знал, и, пожалуй, я чувствовал его гораздо острее, чем те индийцы, что торопливо шагали по улицам с невероятными английскими названиями, в тени имперски-помпезных зданий; так, наверное, другие могли бы ощутить за меня колониальное унижение, которого я сам на Тринидаде не чувствовал.
Я никак не мог соотнести колониальную Индию с колониальным Тринидадом. Тринидад был британской колонией, но каждый ребенок понимал, что наш остров — лишь крохотная точка на карте мира, а значит, принадлежать Британии очень важно: эта связь, по крайней мере, надежно скрепляла нас с более обширной системой. Мы не ощущали, что эта система угнетает нас; и хотя мы являлись британцами — и в политическом отношении, и в области ведомств и образования, — мы находились в Новом Свете, наше население было чрезвычайно смешанным, самих англичан было мало, и они в основном общались между собой, а потому Англия была для нас всего лишь одна из стран, в чьем существовании мы отдавали себе отчет.
Это была страна во многом неизвестная; образованный островитянин мог еще развить в себе вкус ко всему английскому. Для большинства же куда важней была Америка. Англичане делали хорошие крошечные машины для внимательных водителей. Американцы делали настоящие автомобили, они же снимали настоящее кино и поставляли миру лучших певцов и лучшие оркестры. Американские фильмы рассказывали о понятных всем чувствах, их юмор был всем доступен. Американское радио было современным и великолепным, к тому же акцент воспринимался легко; а вот новости Би-Би-Си можно было слушать в течение пятнадцати минут — и не разобрать ни единого слова. Американские солдаты любили толстых уличных шлюх — чем чернее, тем лучше; они заталкивали их в свои джипы и разъезжали от одного клуба к другому, соря деньгами; их всегда можно было втянуть в драки с неравной расстановкой сил. Американцы были людьми, общение с которыми оказалось возможным. Рядом с ними британские солдаты выглядели иностранцами. На Тринидаде им никак не удавалось найти верный тон. Они вели себя или чересчур шумно, или чересчур скованно; они говорили на своем странном английском; они называли самих себя «чуваками» (однажды это даже послужило темой новостного сообщения в «Тринидад-гардиан»), не зная, что на Тринидаде слово «чувак» имеет оскорбительный оттенок; их форма, в особенности шорты, смотрелась уродливо. У них было мало денег и отсутствовало чувство приличия: можно было увидеть, как они покупают в сирийских лавках дешевое женское белье. Такой в расхожем представлении была Англия. Разумеется, имелась и другая Англия — та, что поставляла нам губернаторов и высших государственных чиновников, — но она находилась слишком далеко, чтобы вписываться в действительность.
Мы являлись колониальными жителями на особом положении. Британская империя в Вест-Индии существовала давно. Это была морская держава и, если не считать нескольких площадей да гаваней, оставила по себе мало памятников; а поскольку мы находились в Новом Свете — до 1800 года Тринидад был практически незаселен, — то казалось, что эти памятники относятся к нашему доисторическому прошлому. В силу самой своей давности империя перестала выглядеть неуместной. Требовался несколько отстраненный взгляд, чтобы увидеть, что все наши учреждения и сам наш язык — плоды империи.
Англия, которую я находил в Индии, была совершенно иной. Сразу бросалась в глаза неуместность ее навязанного присутствия. Форт Святого Георгия — серый, тяжеловесный, свидетельствующий об английских вкусах XVIII века, знакомых по однодневным ознакомительным поездкам, — никак не сочетался с мадрасским пейзажем; в Калькутте дом с широким передним фасадом и колоннами — его показывали как дом Клайва[51], — стоявший на запруженной машинами дороге к аэропорту Дум-Дум, явно требовал не столь экзотического окружения. А поскольку следы этой империи по-прежнему выглядели неуместными, то их возраст, хоть он и был моложе, чем возраст той же империи в Вест-Индии, поражал: казалось бы, эти памятники XVIII века должны смотреться наносными новшествами — но тут ты своими глазами видел, что они уже стали неотъемлемой частью этой страны, изобилующей чужими руинами. Такова была одна грань индийской Англии; она принадлежала истории Индии; и она была мертва.
Особняком от нее стояла Англия Раджа. Эта Англия была все еще жива. Она по-прежнему жила в разделении главных городов на «казармы», «гражданские кварталы» и базары. Она жила в общих трапезах армейских офицеров, в серебре, которое так часто дарили, так почтительно начищали и выставляли напоказ, в униформах, усах и офицерских тросточках, в армейских манерах и жаргоне. Она жила в коллекторатах, в поблекших чернилах и аккуратном почерке, которым описаны все земельные владения, которые могли бы составить «Книгу страшного суда»[52] субконтинента: все это вызывало в воображении нескончаемые дни, проведенные верхом на лошади, под раскаленным солнцем, со множеством слуг, но без особых житейских удобств, и вечера, полные кропотливого труда. («Этот труд утомил их, — сказал мне молодой чиновник Индийской административной службы. — После него они уже не в силах были заниматься ничем другим».) Она жила в клубах, утренней игре в бинго по воскресеньям, желтых обложках заграничных изданий «Дейли-миррор» в ухоженных руках индианок из среднего класса; она жила в танцполах городских ресторанов. Это была Англия куда более полнокровная, нежели мог себе вообразить любой выходец с Тринидада. Она была более помпезной, созидательной и вульгарной.
И все-таки было в ней что-то фальшивое. Для меня в ней всегда было что-то фальшивое и у Киплинга и других писателей; было в ней что-то фальшивое и теперь. Может быть, это была смесь Англии с Индией? Может быть, мое колониальное, тринидадско-американское, англоязычное предубеждение не давало мне принять за чистую монету это наложение — без видимой конкуренции — одной культуры на другую? С одной стороны, я ощущал, что это слияние Англии и Индии насильственно; с другой же, видел в нем нечто смехотворное — из-за комичного смешения костюмов и повсеместного использования плохо усвоенного языка. Но было тут и что-то еще — нечто такое, на что намекала архитектура эпохи Раджа: все эти коллектораты, под сводами которых покоились плоды колоссальных усилий, эти клубы, эти здания для выездных судов и инспекторов, эти залы ожидания первого класса на железнодорожных вокзалах. Все эти помещения были чересчур просторны, их потолки — чересчур высоки, их колонны, арки и фронтоны — чересчур напыщенны; они не принадлежали ни Англии, ни Индии; они были слишком помпезны, если учесть их предназначение, как и слишком помпезны, если учесть ничтожество, нищету и беспросветность, на фоне которых они возвышаются. Они говорили скорее о стремлении к усердию, нежели о самом усердии. Они кричали о своей чуже-родности и действительно были более чужеродными, нежели более ранние британские здания, многие из которых выглядят так, словно их целиком перевезли сюда из Англии. Они породили такую скукотищу, как мемориал Виктории в Калькутте и дары лорда Керзона Тадж-Махалу, — скукотищу, которая сама сознавала, что становится предметом насмешек, однако исходила из уверенности в том, что все эти насмешки безболезненно снесет. Попадая в такие здания, я испытывал замешательство; похоже, они все еще старались навязать свое отношение и тем, кто находился внутри, и тем, кто оставался снаружи.