Меир Шалев - Фонтанелла
— Возможно, мне пришло время говорить, как ревнивой женщине.
— Он твой сын, он не твой муж. — И улыбнулся в ответ на ее молчание. — Он пойдет к ней, а мы проведем хороший вечер дома. — И шепнул ей что-то на ухо.
— Об этом ты должен был подумать до того, как набил брюхо едой за ужином! — выговорила она строго.
* * *Так лежали мы с ней и в тот день, когда на деревенские поля упал самолет. Мне было тогда лет восемь с половиной, высокие травы стояли вокруг нас, и глаза наши, пасущиеся в небесных полях, следили за пролетавшими цаплями, белизна которых чернела против солнца, и поэтому прошло несколько секунд, пока глаза поняли, что летящая над нами точка — это самолет. Так высоко, что звук не был слышен.
— Это «мустанг», — сказал я ей с гордостью.
Как любой мальчишка Долины, я знал все типы самолетов на соседнем военном аэродроме. Мы видели, как они взлетают и садятся, гоняются друг за другом, пикируют и взмывают. Но этот самолет не пикировал и не взлетал, он летел медленно, и, в отличие от других самолетов, не видно было, чтобы он маневрировал, или гнался, или подстерегал, или даже вообще куда-нибудь направлялся или спешил. Мы смотрели, как он спокойно качается себе там, будто бабочка, веселящаяся на весеннем воздухе, и Аня с улыбкой произнесла:
Фейгелах флайен
а шуре ланг ви а бан
ун ибер зай айн аероплан.
— Непонятно, — возмутился я. Тогда я уже знал, что «мейделе Алка мит дер блойер парасольке» — это наша «девочка Айелет с голубеньким зонтом», но эти строчки не понял. И Аня перевела:
Мчатся птички-невелички
длинным поездом в полете,
а над ними — самолетик
в небе высоко.
Мчатся птички-невелички,
крылья в воздухе белеют,
а над ними голубеют
перья облаков…
И тут, прямо над нами, высоко-высоко в небе, самолет вдруг накренился носом к земле, так внезапно и резко, что это могло означать только страшную аварию или страшное решение. И сразу стал предельно устремленным: понесся круто вниз, сначала по наклонной, потом — уже по вертикали и под конец — бешено крутясь вокруг себя в гигантском штопоре и приближаясь к земле куда быстрее, чем если бы падал свободным падением.
Аня закричала, вскочила и помчалась, а я бежал за нею, никак не в силах ее догнать.
— Подожди меня, — крикнул я.
Но куда мне было до крылатой быстроты ее ног. Далеко за собой я слышал испуганные крики деревенских жителей, тоже заметивших случившееся, а над всеми нами звенел, заполняя воздух, непрерывно нарастающий визг пикирующего к земле самолета, который сейчас тянули вниз не только сила мотора и земного притяжения, но и влажные канаты глаз, в ужасе прикованных к нему.
«Мустанг» рухнул. Огромный цветок огня расцвел и тотчас увял, оставив светлый след в глазу и черный дым в воздухе. Крики за моей спиной приближались и нарастали. Казалось, вся деревня мчалась за нами следом — бегом, на велосипедах, на тракторах, на лошадях и на телегах. Между мной и Аней уже образовалось большое пространство, бегущие, скачущие, едущие — все обгоняли меня, и всё спешило, и неслось, и торопилось, и мчалось, и таким застыло в моей памяти: гулкая дробь башмаков и копыт, запах горящего бензина, вопли людей, стук моего напрягающегося сердца.
Самолет упал в полутора километрах от въезда в деревню, рядом с дорогой, ведущей к полям вдоль ручья Кишон. Сегодня эта дорога стала шоссейной, по обеим ее сторонам тянутся декоративные деревья и новые кварталы, и каждый вечер по ней бегут от инфаркта мужчины, белея в темноте голыми ногами, и женщины, высоко задирая локти. Возле кипариса, выросшего рядом с памятником в честь погибшего пилота, они поворачивают и возвращаются, и выражение мучительного усилия на их лицах заставляет меня вспомнить легкую силу Аниных ног, когда она мчалась к тому же месту.
Когда я добежал до упавшего самолета, мне уже пришлось протискиваться сквозь стену людей, сгрудившихся вокруг дымящей, развороченной воронки. Огненный цветок давно погас, самолет полностью сгорел, от пилота даже воспоминания не осталось. Только тяжелый запах висел вокруг, да осколки стекла и металла отвечали искрами нашим поблескивающим глазам, и последние шипящие огоньки отвечали шепотом на наш шепот.
Я нашел Аню. На одно короткое и тайное мгновенье она взяла мою руку в свою, сжала и тут же отпустила. Шарики от подшипников вдруг подмигнули мне из сажи и земли. Я наклонился поднять их, увидел и другие богатства — разбросанные пули, провода, ручки и кнопки — и уже хотел было набить карманы трофеями, и другие дети тоже, но тут примчался военный грузовик и с ним несколько джипов с английскими солдатами и офицерами. Они собрали остатки самолета, побросали на грузовик и уехали.
Мы еще много дней потом то и дело ходили туда всей нашей детской ватагой, вооружившись мотыгами и вилами. Выбирали из земли ручки и трубки, кабели и шарикоподшипники, даже остатки застежки-молнии от комбинезона. А через несколько недель снова приехал военный грузовик, на этот раз нагруженный мешками с цементом и опалубкой. Солдаты и рабочие смешали цемент с песком и с щебнем, пошептались с пожилым мужчиной и плакавшей, не переставая, женщиной, залили бетоном большой деревянный прямоугольник и поставили на нем памятник.
* * *Через девять лет после той истории с Рахелью и ее букетом поэт Шауль Черниховский умер в монастыре Сен-Симон в Иерусалиме. Сразу же поползли омерзительной змеей подлые слухи: намекали, будто у изголовья своей кровати умирающий повесил распятие, доверительно нашептывали, будто в последние минуты возле него стоял христианский священник, по секрету сообщали, что его тело было тайком перевезено в больницу «Хадасса», что в Иерусалиме, на Сторожевой горе.
Рахель не обращала внимания на эти сплетни. В газете «Давар» было напечатано, что поэт будет похоронен в Тель-Авиве, и, зная, что родители не позволят ей поехать на похороны, она приготовила себе накануне вечером еду, положила в ранец, а утром помогла, как обычно, Амуме в доме и во дворе и отправилась в школу, но миновала школьные ворота и пошла дальше. На главной дороге она вытащила из ранца балахон Пнины, взятый накануне тайком из шкафа, надела его и вместе с ним обрела что-то и от красоты сестры.
— Как он выглядит, этот балахон, что вся семья только и говорит о нем?
— Странная тряпка, но по-своему красивая.
— Как плащ из парваимского золота? — спросил я.
Моя тетка смерила меня тяжелым взглядом:
— Ты слишком много времени проводишь у нее, Михаэль.
Она подняла руку. Машина остановилась, и Рахель, которой балахон сестры и цель поездки придали важность и смелость, сказала потрясенному водителю: «В Тель-Авив, пожалуйста» — вошла, села на заднее сиденье и больше не произнесла ни слова.
Улица Бен-Иегуды, по которой шла похоронная процессия, была забита людьми. Рахель нашла себе место и ждала. Пятнадцать лет было ей, и, когда гроб приблизился, она заметила, что рядом с ней стоит девочка ее возраста и тоже плачет. Они обменялись взглядами, и обе поняли, что не одна маленькая девочка поднесла Черниховскому букет цветов и не одна маленькая девочка помнит его усы на своей шее.
Когда она вернулась домой, Апупа обрушился на нее со своим страшным: «Где ты была?» — и запер ее в бараке. Но наутро солнечный луч проник через щель между досками, и при его свете Рахель написала письмо своей новой подруге. Через ту же щель она позвала Батию и передала ей листок, чтобы та положила его в конверт и отправила по адресу. Вскоре между нашей деревней и Тель-Авивом образовался двусторонний почтовый поток. Рахель и ее новая подруга непрерывно обменивались трогательными посланиями, которые изобиловали выражениями чувств и длинными цитатами, и безупречная грамматика этих посланий вкупе с искусно вплетенными в них художественными образами позволяли каждой из них понять, что не одна маленькая девочка переписывала в свою тетрадку стихи Черниховского.
Спустя несколько месяцев девушка из Тель-Авива приехала в гости. Она оказалась худенькой, среднего роста, узкоплечей и плоскогрудой, но с таким потрясающе огромным задом, подобного которому в наших местах не видели никогда. Зад был роскошный — высокий, круглый и плотный, а талия над ним такая тонкая, что платье гостьи восходило к ней, как на гору — все выше и выше и там наконец сужалось, натягивалось и задиралось, неизбежно открывая при этом ее ноги выше колен.
— Как это ты ни разу не рассказала нам об этой заднице? — шепотом удивилась Батия.
— Заткнись, мерзавка! — таким же шепотом ответила Рахель.
Каждые несколько минут девушка из Тель-Авива быстро и укоризненно одергивала бунтующее платье и, даже если рядом с ней никого не было, улыбалась виноватой улыбкой, словно это и не ее зад вообще, а вот — прицепился и делает с ней все, что ему вздумается. Чистой и милой была эта улыбка и открывала маленькие и красивые зубы, почти до половины заросшие розовыми деснами. Этот ее зад произвел такое огромное впечатление на наше семейство, что все ощутили какую-то утрату, когда он вернулся в Тель-Авив вместе со своей хозяйкой. Казалось, «Двор Йофе» разом опустел и даже несколько потускнел. А Пнина, по поводу которой никому бы не могло прийти в голову, что ее интересуют подобные вещи, сказала со вздохом:
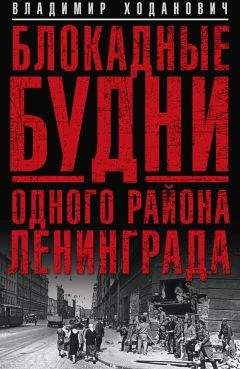

![Александр Солженицын - Русский вопрос на рубеже веков [сборник]](/uploads/posts/books/142120/142120.jpg)
