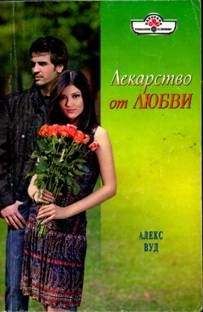Переходы - Ландрагин Алекс
Я играла в драматической труппе театра, находившегося у ворот Сан-Антуан, сценическое имя себе взяла Берта в часть бедной моей матушки, которая так и не оправилась от переезда и зачахла от тоски. Я играла молодую рабыню в фарсе, — призванный позабавить публику, он забывался сразу после падения занавеса. После спектакля Гаспар пришел ко мне за кулисы, а Шарль грозовой тучей тащился следом. Мы все втроем отправились в таверну на улицу Огней. Говорила я мало, вполуха прислушиваясь к разговору мужчин. Заметила, что Шарль ищет способ произвести на меня впечатление. У него был высокий лоб, слабый подбородок и глаза будто две капли кофе. То немногое, что в нем было красивого, портила ранимость, читавшаяся в глазах и очерке рта. Лицо постоянно складывалось в гримасы, походка отличалась неровностью. Он безудержно тратил деньги на самую что ни на есть добротную одежду: лакированные ботинки, черные брюки, синяя рабочая блуза, как раз вошедшая в моду, белоснежное накрахмаленное белье, красный шейный платок, розовые перчатки и длинное алое боа из шенили — такие любили носить простолюдинки. Надевать шляпу он отказывался, притом что мужчины тогда без шляпы не выходили, темные волосы опускал подлиннее, под носом виднелись усики, на подбородке — редкая борода. Целил он на то, чтобы выглядеть красиво и вызывающе — как и всякий денди, а Шарль был одним из самых изысканных и самых вызывающих денди Парижа.
Я заметила, что он поглядывает на меня с восхищением, слегка переходящим рамки приличия. В конце концов, побеседовав некоторое время с Гаспаром, он спросил, откуда я родом.
— Спрашивать бессмысленно, — заявил Гаспар, — она вам не признается. Никогда ничего не рассказывает о себе.
— Женщина-интрига, — произнес Шарль, и на губах его заиграла улыбка. Луч его взгляда сфокусировался на мне. Я почувствовала это в самом желудке. — Но вы ведь нездешняя, верно? Я это слышу по вашему выговору.
— Да, — согласилась я. — Я нездешняя.
— Так откуда вы? — не отставал он.
Я никогда ни единой душе не рассказывала о том, кто я такая и откуда родом. Пусть лучше строят самые дикие догадки.
— Ну, полно, — увещевал он меня, — зачем такая скрытность? Или, может, хотите, чтобы я сам догадался? Я мастер разгадывать такие загадки. И никогда не ошибаюсь.
— Да что вы! — ответила я, прикидываясь заинтересованной. — Так будьте любезны, попробуйте.
— Поаккуратнее со своими желаниями, — вставил Гаспар. — Шарль у нас немало постранствовал.
— Неужели? — откликнулась я.
— Вот именно, — подтвердил Гаспар, поворачиваясь к Шарлю. — Расскажите ей одну из ваших изумительных историй.
Шарль не слушал. Внимание его полностью сосредоточилось на мне.
— Позвольте угадать.
— Разумеется, — ответила я.
— Но если я угадаю верно, вы должны будете это подтвердить.
Я улыбнулась, кивнула. Он сощурился и некоторое время меня рассматривал.
— У меня несколько вариантов: Аравия, Суматра, Гаити, Пондишери, даже Мексика, если навскидку, хотя для мексиканки у вас волосы слишком волнистые.
— Видал я мексиканок с волнистыми волосами, — вставил Гаспар.
— Такое бывает, — подтвердил Шарль, — но как мне кажется, полностью ни одна догадка не верна. Кажется, я понял, откуда вы родом.
— Ну, говорите, — обронила я.
— Вы с Маврикия.
— Это где?
— Это такой остров у восточного побережья Африки. До последнего времени назывался Иль-де-Франс.
Я печально улыбнулась — ведь именно там я видела тебя в последний раз. Не знала, что остров сменил имя.
— Вот вы себя и выдали! — воскликнул он. — Я вас впечатлил?
— Впечатлили — не то слово. Как вы догадались?
— Я там был недавно, — ответил он, — и, едва вас увидев, вспомнил о тамошних туземцах. Долго вы там прожили?
— Уехала совсем молодой. Почти ничего не помню.
— Расскажите ей историю, которую рассказывали в «Клубе гашишистов» в «Пимодане», — подначил Гаспар.
Повернулся ко мне и подмигнул, мол, услышать этот рассказ — великая привилегия.
— История довольно длинная, — заметил Шарль.
— Рассказывайте, — попросила я, испытывая облегчение оттого, что не нахожусь больше в центре внимания. — Если история действительно так хороша, как говорит Гаспар, я ее с радостью послушаю.
— Ну что же. Мой отчим, военный, настаивал, чтобы я либо стал юристом, либо вслед за ним пошел служить в армию за границей, — начал Шарль. — Но я был ребенком несчастливым, склонным к уединению и сильно ревновал к нему свою мать. Читал ненасытно, поглощая все попадавшиеся мне книги, в особенности художественные: романы, рассказы, стихи, эссе, все подряд. Лет в двенадцать мне попалась книга Гюго — одолжил одноклассник. Кажется, это был «Последний день приговоренного к смерти», после чего я стремительно проглотил все его книги, какие сумел заполучить: «Восточные мотивы», «Собор Парижской Богоматери», «Лукрецию Борджа». Я прочитывал все написанное Гюго, что мне удавалось найти. Потом внезапно понял, что в жизни этой хочу одного: писать. При этом что именно я хочу писать, от меня пока ускользало.
Уверен, что любимый мой отец, будь он жив, гордился бы моим решением, отчим же выступил против. Тебя ждут нищета, невзгоды и сумасшествие, предрекал он. Дабы я изжил эту прихоть, он решил отправить меня в Индию. Для себя видел он в этом двойную выгоду: избавившись от меня, он обеспечил бы себе безраздельное внимание моей любимой матушки, а я бы закалился и стал настоящим мужчиной — это он так полагал. Он купил мне билет до Пондишери на судно, где капитаном был его друг, и договорился о том, чтобы по приезде меня ждало место писаря в колониальной администрации, несмотря на отсутствие у меня и подготовки, и способностей к подобной работе. Мне, по молодости лет, хотелось выполнять желания отчима, поэтому я согласился на его план.
Всю дорогу я промучился от морской болезни. По ходу одного шторма — мы как раз огибали мыс Доброй Надежды — меня так мутило и физически, и духовно, что я едва не прыгнул за борт в ревущие морские волны. Но тут я вспомнил про отчима и подумал, что его, безусловно, обрадует моя гибель. После чего крепче схватился за борт и пережил этот шторм.
В Порт-Луи мы прибыли в сезон дождей. Судно, потрепанное штормами, требовало ремонта; мне сказали, что на Маврикии мы, возможно, задержимся на две-три недели. На первое время я снял комнату в трактире-развалюхе у самого берега, где обитали одни лишь индусы, кантонцы и креолы, однако в комнате было так сыро и жарко, да и вообще гостиница оказалась в столь запущенном состоянии, что я в поисках облегчения отправился в горы. Оставив багаж в гостинице, я уложил в мешок хлеб, вино и «Путешествие на Восток» Ламартина и зашагал по дороге, которая, как представлялось, вела в сторону гор в глубине острова, в это время года их постоянно скрывали тучи и туман.
Шел дождь. Я очень быстро промок до нитки, промокла и моя книга, и я уже засомневался в целесообразности этой вылазки на природу, тем более что природу не слишком любил. Через некоторое время меня нагнал ослик, запряженный в телегу, и я очень обрадовался, когда тележка остановилась и возница — он сидел под брезентовым навесом, где было достаточно сухо, чтобы он мог курить трубку, — поинтересовался, зачем это я шагаю один-одинешенек по дороге в такой дождь. Я изумился, услышав, что ко мне обращаются на безупречном, пусть и старомодном французском, отмеченном вышедшими из употребления формами слов, над которыми сегодня во Франции бы посмеялись, да еще и с провансальским акцентом, хотя цвет кожи у старика был такой же, как у креолов. Я поведал ему, что застрял на острове и вот направляюсь в горы, укрыться там от городской духоты. Он сказал, что едет в предгорья, и предложил к нему присоединиться.
Я забрался на тележку и сел рядом со стариком. Лицо у него было иссохшее и такое древнее, что он напоминал одну из тех черепах, про которых говорят, что они живут по семь тысяч лет. Голову, по большей части лысую, украшали длинные пряди побелевших волос. Длинная седая борода доходила до самого пупка. Даже местные туземцы и те одевались пристойнее: вытертые штаны порвались на колене, рубаха была без рукавов. На голом плече я приметил старую сине-зеленую татуировку: широко раскрытый глаз, который явственно выцвел за долгие годы. Выглядел старик дико, но буквально источал доброту и благорасположение. Никогда не забуду блеска его глаз. Он сказал, что зовут его Робле. Сказал, что родился в Марселе. Я спросил про его возраст, он ответил, что какой нынче год, он не знает, но помнит, что родился в тысяча семьсот шестьдесят втором. Захотел узнать, какой год на дворе. Я ответил: тысяча восемьсот сорок первый, то есть ему сейчас семьдесят девять лет. Старик недоверчиво покачал головой. «Выходит, полвека», — проронил он, обращаясь скорее к самому себе, чем ко мне.