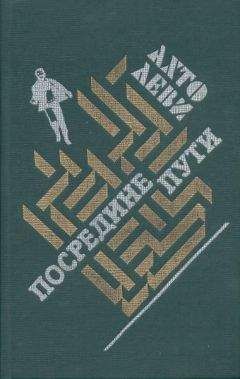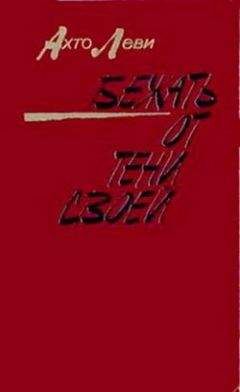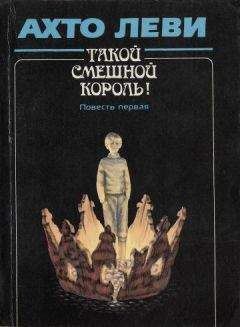Ахто Леви - Записки Серого Волка
Он прав, но, чтобы в совершенстве осмыслить эту правду, мне пришлось забраться вот в эту темную камеру в подвале балашовской тюрьмы, куда я приехал две недели назад, чтобы отбыть здесь три года из моего всевозрастающего срока. Тюрьма эта похожа на все другие тюрьмы, и население ее в основном тоже ничем не отличается от жителей других мест заключений. Я намерен отдыхать здесь, насколько можно отдыхать в тюрьме. Отдыхать от всего того, от всех тех, кого терпеть уже нет сил, с кем меня ничто не связывает, кроме замков и колючей проволоки. Однако чувствую, нелегко мне это удастся: начальство не может понять, почему мне захотелось уединиться, и тревожить оно меня, несомненно, будет. Вот уже две недели живу один. Хорошо! Мог ли я думать десять лет назад, что буду довольствоваться более чем скромной тюремной камерой, чтобы испытывать удовлетворение от существования. Но, конечно, только от существования… А это так, я доволен и молю судьбу, чтобы она позволила отбыть эти три года именно так. Займусь основательно русским языком.
Да, шесть с половиной лет прошло. Но я помню все, как будто это было сегодня. И ее помню, судью… Она красивая, обаятельная, со светлыми глазами, открытым, прямым взглядом и светлыми пышными волосами. Помню, как она выступала на суде, властная. Умна ли она? Не знаю… Наверное. Во время заседания она порою склонила свою красивую голову к заседателям – сперва направо, затем налево, и заседатели нашептывали ей что-то. Она смотрела на меня, а я думал о том, как она меня находит: интересным или нет, мог бы я ей понравиться как мужчина или нет… Многое бы отдал тогда, чтобы узнать, о чем она думала. Мне было очень больно, когда надо мной насмехались охранники, потому что это слышала она; и было больно, когда меня ругали потерпевшие, – потому же… Я устал от жизни, потерял Сирье. Но я был влюблен в судью. Интересно, все люди так устроены или только я?
Меня судили несколько дней, а я все глядел на нее, нa эту красивую женщину, и во мне взбунтовался Серый Волк. Он не хотел умирать, он хотел на волю. Но из этого у него ничего не вышло. Когда судья читала приговор, я смотрел на нее влюбленными глазами и мечтал только об одном, чтобы это длилось как можно дольше, но продолжалось это не вечно. Потом пересылки и, наконец, Урал. Привели в строгорежимную колонию, где обитали воры. Дела у воров шли все хуже и хуже.
От прежних привилегий остались рожки да ножки: в законе, не в законе – на работу гоняли всех, и о кострах нужно было забыть. Вкалывали они, как все. Оказывается, воровские колонии, как и «масть» эта, ликвидируются повсюду. Почти нет больше «воровского закона», вымирает. Еще встречаются подделывающиеся под этот «закон», но это для обмана молодых и самих себя. И хотя это так, воспоминания прежних лет, когда они еще господствовали, делали мое существование вместе с ними тяжелой пыткой.
Я не хотел жить вместе с ними, но эта причина была недостаточно уважительной для того, чтобы меня перевели куда-нибудь. Причем перевод надо было сперва заслужить. А заслужить я не хотел, не верил в такую возможность. Однако и воры все еще пытались иногда взбунтоваться, вернуть навсегда потерянное положение или просто устроить смуту, милую их анархическому складу души, – и скоро после моего прибытия воры учинили очередную заварушку. Во время расследования этого дела меня по ошибке причислили к их компании, забрали, посадили и укатили на один год в тюрьму. Отбыл я этот год сравнительно спокойно. Происшествий не было, за исключением следствия по поводу убийства Ораса и его приятелей-бандитов в болотах Каркси.
Дело в том, что весной нашли в лесу двух застреленных мной людей Ораса. Милиция, разумеется, сразу произвела тщательное расследование в этом районе. Нашла хутор, старуха хозяйка показала, куда зарыла Ораса и Каллиса на другой день после моей расправы, ну и, конечно, описала мою личность. Таким образом дело открылось.
Длилось это следствие около месяца, и поскольку мои жертвы были матерые ворюги и убийцы, оно кончилось безвредно для меня.
Из этой тюрьмы я опять попал в строгорежимную колонию. Продолжалось нудное, однообразное арестантское бытие. Из-за раненой ноги на лесоповал меня не гоняли. Причислили к инвалидам. Мы убивали время как хотели и умели. Я жил, как заведенный механизм, безразличный ко всему; время тянулось так медленно, а сидеть так много… Но как бы отчужденно ни относился человек к жизни, она его заденет и заставит принимать в ней участие. Она задела и меня, и, как всегда, больно.
Избили меня из-за женщины, которую я никогда в глаза не видел и ничего о ней не знаю, кроме того, что она когда-то подарила некоему Мартину, другу своему, фото, что ее зовут Эстер, что она эстонка. Моих противников было четверо, орудовали они швабрами и березовыми поленьями. Косточки мои после этого стали как резиновые, мягкие, и совершенно не держали меня, так что продолжительное время я мог существовать лишь в горизонтальном положении.
Среди всех этих бездельников есть типы, занимающиеся коллекционированием фото красивых женщин, совершенно им чужих. Они их выдают за своих любовниц, показывают фото друг другу и всем желающим, причем выдумывают всякие пошленькие истории. Все это так же в моде, как заочная дружба с женщинами посредством переписки, когда у наивных выманивают деньги или посылки, а в благодарность над ними же насмехаются.
Один из таких донжуанов среди прочих показал и эту карточку, на обороте ее на чистейшем эстонском языке было написано: другу Мартину от Эстер и так далее… Указывая на эту надпись, я спросил обладателя фото, где он познакомился с этой женщиной. Не подозревая, что я эстонец, он понес чепуху. Тут я порвал фото и сообщил, что думаю по этому поводу. Тогда вся эта свора напала на меня и произвела расправу.
После этого события я возненавидел окружавших меня, чувствовал себя чем-то вроде белого слона среди папуасов и мечтал только об одном: уединиться. Но куда? С утра до вечера я слонялся по зоне. Все меня раздражало, даже отказчики, эти лентяи и лодыри, которых отвращение к труду привело в заключение, где они также из-за этого постоянно страдают, – даже эти человечишки меня раздражали. Я всех ненавидел. Ну и, разумеется, мне ответили тем же. Меня стали сторониться, меня избегали, а многие попросту побаивались. В душе творилось что-то скверное, что – я не понимал сам и до сих пор не понимаю.
Избили меня здорово, и я заболел. Когда врачу колонии стало очевидно, что мое состояние становится все хуже, он отправил меня в Центральную больницу управления.
* * *…Тишина. А все-таки приятно, когда тихо вокруг. Лишь изредка тихонько открывается глазок в двери, тут же закрывается, и слышны осторожные шаги по коридору. На время меня поместили в подвале, здесь, конечно, жилых камер нет, только карцеры. И я нахожусь в карцере, так сказать, на общем положении, имею постель и все прочее. Но какое это блаженство – отдохнуть от жаргона, мата, от охранников, которым не спалось, когда я был в зоне… Здесь не нужно заставлять себя с кем-то говорить, здесь можно думать, спать, читать, писать и можно мыть свою камеру хоть каждый день, и воздух чистый, некому отравлять его вонючей копотью от махры.