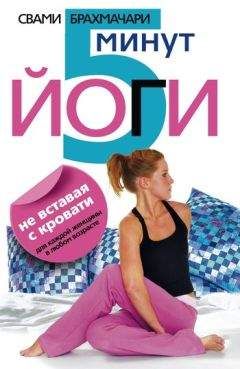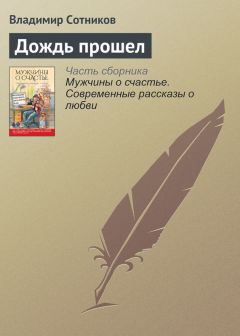Марина Степнова - Женщины Лазаря
Линдт — маленький, сухой, похожий не то на вставшее на задние лапы чучело пожилого львенка, не то на молодящегося египетского божка, — остался маяться у ледяного ночного окна, провожая жену грустными глазами (не обернулась, нет, и снова не обернулась). Скорая, покрутив толстым красноглазым задом, выехала наконец со двора, и Линдт, машинально вычислив алгоритм чередования заснеженных елочных макушек и увенчанных чугунными пиками штакетин ограды, вернулся в спальню — единственное, кроме кабинета, обжитое место громадной квартиры. Было ясно, что тревожиться, в общем, не из-за чего, но на сердце все равно было неспокойно, то ли потому, что за год Линдт привык засыпать, до краев наполнив ладонь молодой женской грудью, то ли потому, что к утру Галина Петровна всегда умудрялась выскользнуть из подневольных объятий и отползти далеко-далеко, к самому краю постели, так что просыпался Линдт все равно один — вытянув опустевшую, напрасную руку, будто городской побирушка, юродивый старичок, пытающийся ухватить жизнь за неотвратимо ускользающие юбки.
Это было больно — каждое утро и целую минуту. Но Линдт, как взрослый и честный человек, понимал, что эта боль — правильная, и тоже — взрослая и честная, потому что — как иначе было расплатиться за пронзительное счастье ежевечернего засыпания, когда он и желанная женщина лежали, слившись, словно две миски, гладко и ловко сложенные одна в другую? А так утренняя боль уравновешивала вечерние радости и даже делала их острее, так что общая гармония мира оставалась неизменной — это была ветхозаветная математика, божественно ясные правила возмездия и справедливости, понятный и правдивый расчет, и лишь сотое значение после итоговой запятой иногда вызывало у Линдта некоторое сомнение. После того как умерла Маруся, слово «любовь» он не произносил даже мысленно. Никогда. Теперь это было слово не из скрижалей, неточная дефиниция, Линдт таких не любил.
Он зарылся лицом в разоренную постель. От подушки тонко и сильно пахло нежным и золотым, влажным и рыжевато-розовым — плотью Галины Петровны и ее сутью, и все это за какой-то десяток с лишним месяцев стало его собственным запахом, продолжением его собственной сути. Нет — его собственной сутью, ибо оставит мужчина отца и мать и прилепится к жене своей, и будут они единая плоть. К юному и родному аромату примешивался почему-то тревожный болотный душок, гнилостный, грязноватый, жирный, — это был след ночного кошмара Галины Петровны, запах адреналина, за этот запах и за разработку бета-блокаторов адренергических и гистаминовых рецепторов Джеймс Уит Блэк получит Нобелевскую премию, и человечество с облегчением поймет свой генетический ужас перед болотами — просто болота пахнут нашим концентрированным страхом. Но это еще не скоро, это еще в 1988 году. Линдт перебрал в уме недоделанное за день — обрывки формул, вопросы, беглые маргиналии на полях, — пытаясь заснуть и хоть так отогнать жуткую животную тоску по жене.
Млекопитающие привыкли спать в куче, это естественно и биологично, — объяснил он сам себе, задремывая и потихоньку отпуская на волю душу, бессмертную, беспокойную, не признанную им же самим душу воинствующего и блестяще вооруженного полуагностика-полуатеиста. И душа заспешила, понеслась к точке своего болезненного притяжения — мягкая, гладкая, невидимо, но ясно светящаяся в темноте. Покрутившись по больничным коридорам, она безошибочно нашла палату, в которой разместили Галину Петровну, опоенную безобидным пустырником и валерьянкой, но все равно — испуганную настолько, что она даже икать больше не могла, а только лежала на спине, уставившись огромными сухими глазами в потолок и из последних сил отгоняя от себя стрекочущие буквы.
Линдтова душа немедленно примостилась у самого сердца Галины Петровны исцеляющим кошачьим клубком, замурчала неслышно и успокаивающе, и мороки и страхи поспешили прочь, а буквы расползлись по углам, бессильно шипя и скаля крошечные иголочные зубки. Больничная койка — сверхмодная, утыканная рычагами и рукоятями, которые в одно мгновение могли превратить страдальческий одр хоть в удобное кресло, хоть в операционный стол, — мягко заколыхалась, потолок, прежде враждебно белый и сухой, стал влажным, кружащимся, близким, и Галина Петровна начала неторопливо погружаться в него — слой за слоем, шаг за шагом — все ближе и ближе к мирному, колыбельному свету, который не нес ничего, кроме мира и любви, ничего, кроме любви и мира…
Чья-то теплая ладонь приласкала ей лоб, пригладила влажные волосы — материнским, бесполым, бесконечно сострадающим жестом, и как только опустошенная Галина Петровна наконец-то тихо, без сновидений и ужасов, заснула, на другом конце Энска беззвучно заплакал во сне Лазарь Линдт и плакал до самого рассвета — пока невыплаканные Галиной Петровной слезы наконец не закончились.
Наутро заполошный будильник вернул все на свои места — Галину Петровну, Линдта, его пропахшую больницей и подтаявшую от усталости и ночных бдений душу. И все потекло своим привычным скучноватым чередом, разве что протянутая поперек постели рука Линдта впервые не показалась ему самому напрасной, да наволочка была совсем мокрая, так что смущенный Линдт, выбривая перед зеркалом морщинистые синие щеки, даже горько поразмышлял о том, не начал ли он пускать на старости лет сонные слюни.
Вместо утренней кафедры он, разумеется, поехал в больницу, прихватив по дороге половину центрального рынка — яблоки, домашний творог, угреватые, пористые лимоны, мед — торжественный, неторопливый, превративший банальную липкую литровую банку в мерцающую изнутри дворцовую светильню, и — главное! — невиданные в декабре свежие тепличные огурцы.
— Что ж вы, Лазарь Иосифович, нас обижаете, как будто мы пациентов голодом морим! — от души возмутилась заведующая отделением патологии, обегая крошечного стремительного Линдта то с одного, то с другого бока, — вот тут направо, пожалуйста.
Но Линдт только отмахнулся, он и сам как будто знал дорогу, поворот, поворот, сердечный перебой и сразу слева — заветная дверь.
Галина Петровна сидела на кровати — выспавшаяся, яркая, до краев налитая мирным розовым светом.
— А вот и наша красавица! — умиленно пропела заведующая, словно самолично вылепила Линдту молодую жену из нежнейшего, свежайшего, самолучшего сливочного масла. Линдт разгрузил пакеты на тумбочку и клюнул Галину Петровну в мягкую ямку между шеей и плечом — вообще-то, он хотел поцеловать в губы, но ради бога, как угодно, главное — как ты, ясная моя, эскулапы вот хором клянутся, что все совершенно и решительно хорошо. Галина Петровна даже не кивнула в ответ, уставившись в воздух прямо перед собой сразу одеревеневшими глазами. Как только Линдт вошел в палату, она словно мгновенно захлопнулась — Линдту даже показалось, будто он услышал тихий, но отчетливый щелчок, с которым упала невидимая крышка, так что ему в очередной раз не удалось рассмотреть внутри ничего, кроме удушливо-ярких лоскутов да дрожащей россыпи разрозненных, разбежавшихся бусин.