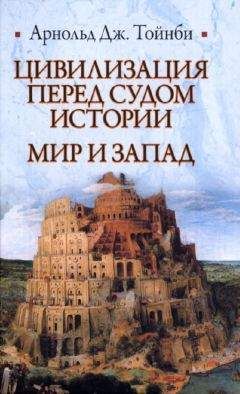Халед Хоссейни - И эхо летит по горам
Далее следовал предсказуемый период, когда маман внезапно выказывала склонность к одиночеству. Не вставала с кровати, не снимала старого зимнего пальто, надетого поверх пижамы, — усталое, страдальческое, неулыбчивое присутствие. Пари знала, что лучше оставить ее в покое. Любые попытки утешать или развлекать не приветствовались. Это паршивое настроение длилось неделями. После Жюльена оно тянулось гораздо дольше.
— Ah, merde![7] — говорит маман.
Она сидит на койке, все еще в больничной ночнушке. Доктор Делонэ выдал Пари документы на выписку, а медсестра вынимает иглу капельницы у маман из руки.
— Что такое?
— Да вспомнила. У меня через пару дней интервью.
— Интервью?
— Для поэтического журнала.
— Это же замечательно, маман.
— К статье полагается фотография. — Она тыкает пальцем в швы.
— Я уверена, ты найдешь изящный способ все скрыть, — говорит Пари.
Маман вздыхает, отводит взгляд. Медсестра вытаскивает иглу, маман морщится и рявкает что-то недоброе, незаслуженное.
Фрагмент из «Афганской певчей
птицы», интервью с Нилой Вахдати
Этьенн Бустуле
«Параллакс-84» (Зима, 1974), стр. 36
Я вновь оглядываю квартиру, меня тянет к фотографии в рамке на одной книжной полке. На снимке — маленькая девочка, сидит на корточках в заросшем кустарником поле, она полностью поглощена тем, что там собирает, — наверное, ягоды. На ней ярко-желтое пальто, застегнутое на все пуговицы, — яркий контраст облачному серому небу. На заднем плане — каменный сельский дом с закрытыми ставнями и потрепанной кровлей. Спрашиваю об этой фотографии.
НВ. Это моя дочь Пари. Как город, только без s. Означает «фея». Этот снимок мы сделали в Нормандии, ездили вдвоем. В 1957-м, кажется. Ей тогда было восемь.
ЭБ. Она живет в Париже?
НВ. Учит математику в Сорбонне.
ЭБ. Вы, наверное, гордитесь ею.
Она улыбается, пожимает плечами.
ЭБ. Меня несколько удивляет ее выбор призвания: вы же посвятили себя искусству.
НВ. Не знаю, откуда в ней это. Все эти непостижимые формулы и теории. Ей они, видимо, не непостижимы. Я сама едва справляюсь с умножением.
ЭБ. Может, это ее бунт. Полагаю, вы сами знаете о бунтарстве не понаслышке.
НВ. Да, но я-то бунтовала как полагается. Пила, курила, заводила любовников. Кто ж устраивает математические бунты? (Смеется.) И к тому же она — тот самый пресловутый бунтарь без идеала. Я позволила ей все мыслимые свободы. Она ни в чем не нуждается, моя дочь. Все у нее есть. Она живет с мужчиной. Несколько старше ее. Обаятельный до невозможности, начитанный, интересный. Конченый нарцисс, конечно. Эго размером с Польшу.
ЭБ. Вы его не одобряете.
НВ. Одобряю я или нет — не имеет значения. Это Франция, месье Бустуле, не Афганистан. Молодые люди здесь живут и умирают без печати родительского одобрения.
ЭБ. У вашей дочери, значит, нет связей с Афганистаном?
НВ. Мы уехали оттуда, когда ей было шесть. У нее о тех местах осталось мало воспоминаний.
ЭБ. Но не у вас, разумеется.
Прошу ее рассказать о ее юных годах.
Она извиняется и ненадолго выходит из комнаты. Вернувшись, вручает мне старую, потрескавшуюся черно-белую фотографию. На ней — сурового вида мужчина, кряжистый, в очках, блестящие волосы зачесаны назад, пробор безупречен. Он сидит за столом, читает книгу. Облачен в костюм с острыми лацканами, двубортный жилет, белую рубашку с высоким воротником и галстук-бабочку.
НВ. Мой отец. Тысяча девятьсот двадцать девятый. Я родилась в тот год.
ЭБ. Выглядит как титулованная особа.
НВ. Он был из пуштунской аристократии в Кабуле. Прекрасно образованный, безукоризненные манеры, в пределах приличий общителен. Блестящий рассказчик. Во всяком случае, на публике.
ЭБ. А приватно?
НВ. Попробуйте догадаться, месье Бустуле.
Я вновь всматриваюсь в фотографию.
ЭБ. Отстраненный, я бы сказал. Суровый. Непроницаемый. Бескомпромиссный.
НВ. Я все же настаиваю, чтобы вы со мной выпили. Ненавижу — нет, презираю — питие в одиночку.
Наливает мне бокал шардоне. Пригубливаю из вежливости.
НВ. У него, у отца моего, всегда были холодные руки. В любую погоду. У него всегда были холодные руки. И он всегда носил костюм, опять же — в любую погоду. Идеального покроя, с острыми стрелками. И шляпу. И броги двух оттенков. Он был красив, пусть и на торжественный лад. К тому же — и это я поняла существенно позже — на искусственный, слегка абсурдный, псевдоевропейский лад, довершенный еженедельными играми в газонный боулинг и поло, а также обожаемой женой-француженкой, и все это — на радость молодому прогрессивному королю.
Она ковыряет ноготь, некоторое время молчит. Я переворачиваю кассету в диктофоне.
НВ. Мой отец спал в своей комнате, мы с мамой — в своей. Днем он обычно обедал с министрами и советниками короля. Или катался верхом, играл в поло или охотился. Он обожал охоту.
ЭБ. То есть вы не слишком много общались. Он, в общем, отсутствовал.
НВ. Не вполне. Он непременно проводил со мной несколько минут каждые пару дней. Приходил ко мне в комнату, присаживался на кровать, и то был мне сигнал забираться к нему на колени. Он качал меня, мы оба при этом говорили мало, и наконец он спрашивал: «Ну, чем займемся, Нила?» Иногда разрешал мне достать у него из нагрудного кармана платок и складывать его. Понятное дело, я его попросту комкала и засовывала обратно к нему в карман, а он изображал поддельное изумление, что казалось мне весьма комичным. И так мы играли, пока ему не надоедало, а случалось это довольно скоро.
Тогда он гладил меня по волосам холодными руками и говорил: «Папе пора, олешка. Беги».
Она уносит фотографию в другую комнату, возвращается, достает из ящика еще одну пачку сигарет, закуривает.
НВ. Такое вот он мне дал прозвище. Мне нравилось. Я скакала по саду — у нас был громадный сад — и напевала: «Я — папина олешка! Я — папина олешка». Много позже я поняла, насколько зловещим было это прозвище.
ЭБ. Простите?
Она улыбается.
НВ. Мой отец стрелял оленей, месье Бустуле.
До квартиры маман можно дойти пешком, всего несколько кварталов, но дождь заметно усилился. В такси маман, укрытая плащом Пари, сворачивается клубком на заднем сиденье и безмолвно смотрит в окно. Пари в этот миг она кажется старой, гораздо старше ее сорока четырех. Старой, хрупкой, худой.