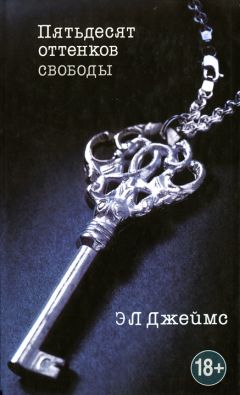Виктор Пелевин - Чапаев и Пустота
– Ну да, конечно, – сказал он неожиданно для себя. – Он и гири. То есть «он» и «гири».
Кавабата хлопнул в ладоши и рассмеялся.
– Еще сакэ, – сказал он.
– Вы знаете, – ответил Сердюк, – я бы с удовольствием, но, может быть, сначала все-таки интервью? Я быстро пьянею.
– Интервью уже закончилось, – сказал Кавабата, наливая в стаканчики. – Видите ли, в чем дело, – наша фирма существует очень давно, так давно, что, если я скажу вам, вы, боюсь, не поверите. Главное для нас – это традиции. К нам, если позволите мне выразиться фигурально, можно попасть только через очень узкую дверь, и вы только что сделали сквозь нее уверенный шаг. Поздравляю.
– Какая дверь? – спросил Сердюк.
Кавабата указал на гравюру.
– Вот эта, – сказал он. – Единственная, которая ведет в «Тайра инкорпорейтед».
– Не очень понимаю, – сказал Сердюк. – Насколько я себе представляю, вы занимаетесь торговлей, и для вас…
Кавабата поднял ладонь.
– Я часто с ужасом замечаю, – сказал он, – что пол-России успело заразиться отвратительным западным прагматизмом. Конечно, я не имею в виду вас, но у меня есть все основания для таких слов.
– А что плохого в прагматизме? – спросил Сердюк.
– В древние времена, – сказал Кавабата, – в нашей стране чиновников назначали на важные посты после экзаменов, на которых они писали сочинения о прекрасном. И это был очень мудрый принцип – ведь если человек понимает в том, что неизмеримо выше всех этих бюрократических манипуляций, то уж с ними-то он без сомнения справится. Если ваш ум с быстротой молнии проник в тайну зашифрованной в рисунке древней аллегории, то неужели для вас составят какую-нибудь проблему все эти прайс-листы и накладные? Никогда. Больше того, после вашего ответа я почту за честь выпить с вами. Прошу вас, не отказывайтесь.
Выпив еще одну, Сердюк неожиданно для себя провалился в воспоминания о вчерашнем дне – оказывается, с Пушкинской площади он поехал на Чистые Пруды. Правда, было не очень ясно, зачем, – в памяти остался только памятник Грибоедову, видный под каким-то странным ракурсом, словно он смотрел на него из-под лавки.
– Да, – задумчиво сказал Кавабата, – а ведь, в сущности, этот рисунок страшен. От животных нас отличают только те правила и ритуалы, о которых мы договорились друг с другом. Нарушить их – хуже, чем умереть, потому что только они отделяют нас от бездны хаоса, начинающейся прямо у наших ног, – если, конечно, снять повязку с глаз.
Он указал пальцем на гравюру.
– Но у нас в Японии есть и такая традиция – иногда на секунду отступаться глубоко внутри себя от всех традиций, отрекаться, как говорят, от Будды и Мары, чтобы ощутить непередаваемый вкус реальности. И эта секунда иногда рождает удивительные творения искусства…
Кавабата еще раз посмотрел на человека с мечами, стоящего над обрывом, и вздохнул.
– Да, – сказал Сердюк. – У нас сейчас тоже такая жизнь, что человек от всего отступается. А традиции… Ну как, некоторые ходят во всякие там церкви, но в основном человек, конечно, посмотрит телевизор, а потом о деньгах думает.
Он почувствовал, что сильно опустил планку разговора, и надо срочно сказать что-нибудь умное.
– Наверно, – продолжил он, протягивая Кавабате пустой стакан, – это происходит потому, что по своей природе российский человек не склонен к метафизическому поиску и довольствуется тем замешанным на алкоголизме безбожием, которое, если честно сказать, и есть наша главная духовная традиция.
Кавабата налил Сердюку и себе.
– Здесь я позволю себе не вполне согласиться с вами, – сказал он. – И вот почему. Недавно я приобрел для нашей коллекции русского религиозного искусства…
– Вы собираете? – спросил Сердюк.
– Да, – сказал Кавабата, вставая с пола и подходя к одному из стеллажей. – Это тоже один из принципов нашей фирмы. Мы всегда стараемся проникнуть глубоко в душу того народа, с которым ведем дела. Дело здесь не в том, что мы хотим извлечь благодаря этому какую-то дополнительную прибыль, поняв… Как это по-русски? Ментальность, да?
Сердюк кивнул.
– Нет, – продолжал Кавабата, открывая какую-то большую папку. – Дело здесь скорее в желании возвысить до искусства даже самую далекую от него деятельность. Понимаете ли, если вы продаете партию пулеметов, так сказать, в пустоту, из которой вам на счет поступают неизвестно как заработанные деньги, то вы мало чем отличаетесь от кассового аппарата. Но если вы продаете ту же партию пулеметов людям, про которых вам известно, что каждый раз, когда они убивают других, они должны каяться перед тремя ипостасями создателя этого мира, то простой акт продажи возвышается до искусства и приобретает совсем другое качество. Не для них, конечно, – для вас. Вы в гармонии, вы в единстве со вселенной, в которой вы действуете, и ваша подпись под контрактом приобретает такой же экзистенциальный статус… Я правильно говорю это по-русски?
Сердюк кивнул.
– Такой же экзистенциальный статус, какой имеют восход солнца, морской прилив или колебание травинки под ветром… О чем это я говорил вначале?
– О вашей коллекции.
– А, ну да. Вот, не угодно ли взглянуть?
Он протянул Сердюку большой лист, покрытый тонким слоем защитной кальки.
– Только прошу вас, осторожнее.
Сердюк взял лист в руки. Это был кусок пыльного сероватого картона, судя по всему, довольно старого. На нем черной краской сквозь грубый трафарет было косо отпечатано слово «Бог».
– Что это?
– Это русская концептуальная икона начала века, – сказал Кавабата. – Работа Давида Бурлюка. Слышали про такого?
– Что-то слышал.
– Он, как ни странно, не очень известен в России, – сказал Кавабата. – Но это не важно. Вы только вглядитесь!
Сердюк еще раз посмотрел на лист. Буквы были рассечены белыми линиями, оставшимися, видимо, от скреплявших трафарет полосок бумаги. Слово было напечатано грубо, и вокруг него застыли пятна краски – все вместе странно напоминало след сапога.
Сердюк поймал взгляд Кавабаты и протянул что-то вроде «Да-ааа».
– Сколько здесь смыслов, – продолжал Кавабата. – Подождите, молчите – я попробую сказать о том, что вижу сам, а если упущу что-нибудь, вы добавите. Хорошо?