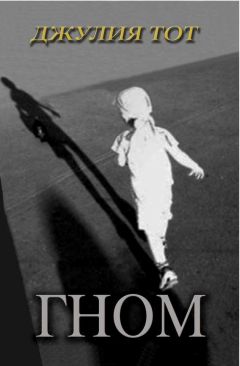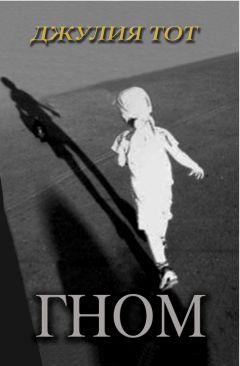Виктор Свен - Моль
— Да что вы, — в испуге прошептал Прошков. — Как возможно? У меня этого и железом не добудешь.
— Ну, ну, — уже более спокойно сказал Мохов. — Ладно. С Сонькой путаться — можешь. Да только она тебе и за юбку подержаться не даст. Это я знаю. Так что — смотри: игру веди тонко. До сигнала. Понял?
— Понял, товарищ Мохов. Я так и действую. Комар носу не подточит. А что не везучий я на бабу, это вы, товарищ Мохов, правильно отметили. Да и куда мне? Сонька — она для больших горизонтов, на нее, товарищ Мохов, ловить кого хочешь можно. И француза и англичанина. На нее любой враг клюнет.
— Знаю, — перебил Мохов. — Ты мне лекцию не читай.
— Я и не читаю, — уже совсем осмелев, говорил Прошков. — Да только она, товарищ Мохов, продать способна. Это точно. Я вам докажу. А уж тогда, товарищ Мохов, как обещали, в штат меня возьмите. Открыто. Не всю ж мне жизнь темнить! Хочется и человеком стать.
— Там видно будет, — буркнул Мохов. — А человеком стать — нам таковых мало требуется! Такие, что темнят… такие нам требуются и требуются. А вообще — старайсь. Учти, что Соньке не всё прощено. Ну, после ее ошибки с Вольским. Она в Москве, так, вроде для проверки. И еще учти: около нее работает Мишка Большой. Вроде конкурент тебе. Только смотри: виду не показывай, что об этом ты знаешь. Потому что и сама Сонька не догадывается, что Мишка Большой послан к ней нами. Учти! Пока всё. Иди. Ты когда к ней попадешь?
— Через день-другой. Она, товарищ Мохов, не всегда и пускает.
— Знаю. Да ты и сам сказал, что на бабу не везучий. Иди. И помни, что из чека путь только один — в подвал.
Расстроенным вышел Прошков из квартиры Мохова.
На улице, среди редких прохожих, куда-то торопливо шагающих, Прошков почувствовал себя уверенно. Он даже впился профессионально-изучающим взглядом в чье-то лицо, и тут же отвернулся, вспомнив Мохова, его мертвый глаз и, почему-то, Соньку.
«Бывает же такая красота», — подумал Прошков, и от этой красоты сам себя отставил. Куда ему! Сонька! Сонька в Одессе, Херсоне, Новороссийске, играючи, прибирала к рукам французских офицеров, попутно доведя до самоубийства белого штабного офицера, слишком поздно обнаружившего пропажу секретных документов из штаба Главнокомандующего.
Соньку тех лет Прошков, конечно, не знал, но слухи о таинственной и дерзкой чекистке, оперировавшей в тылу врага, доходили и до него.
Потом, правда, она на чем-то большом сорвалась, погорела, что должно было закончиться стенкой, но за прошлые заслуги ее помиловал сам Председатель, переключив на работу по особым заданиям.
Так появилась Сонька-Золотуха, опять завертелась, легко очаровывая внутренних врагов своей обворожительностью и великим мастерством выглядеть беспомощной тургеневской девушкой, гибнущей в омуте революции и остающейся трогательно-прекрасной дочерью былой России.
И опять сорвалась Сонька. На этот раз в Киеве, сознательно или случайно открыв сигнал белому корнету Феликсу Вольскому, спрятавшему свое прошлое, сумевшему стать красным командиром и занять должность начальника разведки штаба военного округа.
Как всё это случилось, Прошков точно не знал. Попытки же понять, почему Сонька помогла Феликсу Вольскому уйти из рук чекистов, были бесплодными.
Ее опять помиловали. Это тоже не могло не смущать Прошкова: такого — второго — случая в истории чека найти нельзя.
Когда Соньку перевели в Москву и поручили Прошкову взять ее под наблюдение — он отнесся к этому, как к обычной работе, совсем не предполагая, что после первой встречи с Сонькой вернется к себе домой и долго будет шептать: «Ну и красота»…
Может быть даже потому, что эта красота носила уже следы увядания, Прошков, всё чаще и чаще сталкивающийся с Сонькой, пришел, наконец, к поразившему его убеждению: он не может жить без Соньки.
Да, она такая и сякая. Всё это верно. О мелочах, из которых складывалась ее теперешняя жизнь, он должен был доносить в своих информациях. Эти информации он писал излишне подробно, чтобы спрятать свои чувства, цинично оплевываемые Сонькой.
— С кем только я не спала, — смеялась Сонька. — По заданию и без… Спала, может, и с таким, что похуже тебя! Видишь, что за я? А вот о любви… один разок в своей распутной жизни услышала я такое слово. И знаешь от кого?
— Ну? — невольно спросил Прошков.
— От Вольского…
Об этом не говорил в своих донесениях Прошков. Молчал и о том, как он просто и по-человечески просил Соньку бросить «дело» и оторваться от того мира, в котором и он и она жили.
Что это? Любовь? Что-то другое и непонятное. У таких, как он и Сонька — любви не может быть. Он мужественно признал, что грязнее Соньки — он сам.
В таком состоянии, пусть и без всякой пользы для себя, ему и захотелось сразу же после посещения Мохова увидеть Соньку, сказать всё без утайки, предупредить и помочь ей исчезнуть.
Прошков отлично понимал, под какую угрозу он ставит самого себя. Он даже вспомнил Мохова: «Из чека уходят — в подвал..»
Невольно взглянув на решетки подвала одного из домов, мимо которых он проходил, Прошков вдруг заторопился, вскочил в трамвай, потом брел по переулкам и, запыхавшись, остановился, желая представить себе встречу с Сонькой. С ней он уже не виделся два дня.
По узкой лестнице он шагал медленно. Подойдя к двери, тихо, условным стуком, щелкнул у замочной скважины.
С той стороны кто-то прислушивался. Прошков опять стукнул. Дверь отворилась.
— Ты чего зачастил? — недовольно спросила Сонька. — Дела у тебя другого нет?
— Соня. Давай хорошо поговорим. Потому что «дело» мое… да это о тебе мысль.
— Слышала. Ну, заходи…
Вслед за Сонькой, Прошков вошел в большую комнату. Пахло тут тем страшным духом, какой остается от самогонки, шампанского, махорки и дыма отличных контрабандных сигарет.
На столе беспорядочной кучей громоздились стаканы, на тарелках и около них — валялись остатки какой-то закуски. В углу комнаты были свалены пустые бутылки и разный мусор.
Ничто не удивило Прошкова. Но стоило ему заметить среди мусора растоптанный кусок хлеба, как-то сразу пропали все, недавно такие еще хорошие слова и мысли, и уже захотелось даже не Соньку, а самого себя облить грязью.
— Погуляли, значит, — прохрипел Прошков. — Договорились?
— А ты чего влазишь в подробности? Детали тебе нужны?
Понимая, что ему уже не спастись от самого себя, Прошков криво усмехнулся.
— Ты чего зубы скалишь? Любопытно? — спросила Сонька.
— Любопытно, — вяло, но как-то серьезно сказал Прошков. — Я, понимаешь, с детства любопытный. Я уже на десятом годку своей жизни распознал, что ножом режут не только хлеб насущный.
— Кто тебя такому научил? — Сонька в недоумении подняла брови. — Кто тебя в такие люди вывел?
— Да так. Был один. Весьма сознательный товарищ.
— Об этом я уже слышала, — махнула рукой Сонька и зевнула. — Спать хочется. Ты иди к себе домой. Больше приходить не надо. Не показывайся здесь. Я, знаешь вчера замуж вышла. За Мишку. Чувствуешь: за Мишку Большого. Вот тут и веселье справляли.