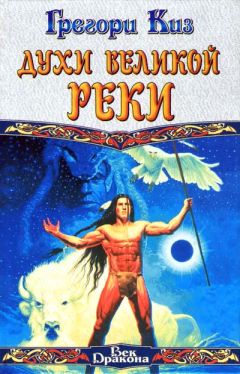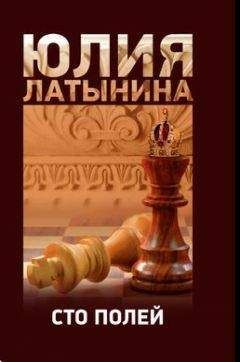Эндрю Миллер - Оптимисты
Две-три минуты они лежали в обнимку, словно выброшенные на берег жертвы кораблекрушения, потом, оторвавшись от него, она подобрала с пола халат и вышла из комнаты.
— Не гаси свечку, — попросил он, когда Лоренсия вернулась; она забралась к нему под одеяло. — Ты знала, что мы будем этим заниматься?
— Нет, — ответила она. — Откуда бы я знала? А ты?
— Вообще-то, нет.
— Но надеялся?
— Конечно, — засмеялся он. — Конечно надеялся.
Спал он крепко, без снов. Когда проснулся, свеча почти догорела, пламя дрожало на фитиле, как рябь на воде, расплескивая по потолку отблески света. С соседней подушки Лоренсия смотрела на него широко открытыми глазами.
— Что это? — шепотом спросил он.
С лестничной площадки послышались шум и лязганье лифта. Через минуту в замке входной двери провернулся ключ, кто-то отворил и мягко закрыл дверь. Лоренсия поднесла палец к губам. Шаги, на секунду замерев напротив дверей спальни, удалились в сторону гостиной.
— Не обращай внимания, — прошептала она.
— Кто это?
— Постоялец, — ответила она («un locataire»). — Возвращается поздно и рано уходит.
Шаги опять приблизились. В ванной раздался звук падающей из-под крана воды, мужской кашель, шум сливаемого бачка. Потом незнакомец опять скрылся в глубине квартиры.
Интересно, почему она ничего не сказала о нем раньше? И где он ночует, этот постоялец? Может, за гостиной есть еще одна комната, входа в которую он не заметил? Он собирался расспросить ее, но заметил, что она уже закрыла глаза и, видимо, заснула. С легким чувством ревности вспомнился мускулистый молодой человек — как там его звали? Жан? Уж не он ли снимает здесь комнату? Но с чего бы? Почему это лезет ему в голову? Сдавать комнату — очень разумная идея, особенно если она работает в ФИА только на полставки и при этом приходится платить за уроки музыки и дорогие велосипеды. Он лежал и прислушивался, но слышал только, как по окну мягко бьет дождь, а за несколько улиц вдалеке разворачивается машина. Найдя под одеялом ее ладонь, он осторожно накрыл ее своей; не просыпаясь, она что-то пробормотала, возможно его имя, и он заснул.
Когда Клем проснулся в другой раз, свеча уже погасла, и, пока он не уловил ее ровное дыхание, ему на секунду показалось, что он опять лежит в комнате дачного домика в Колкомбе и что опять перегорели пробки. Сдвинувшись к своему краю кровати, он тихонько опустил ноги на пол, потом нагишом пересек, словно вплавь, черноту комнаты, достиг темной двери и очутился во мраке прохода. Когда он потянул за шнур выключателя в туалете, внезапно хлынувший свет заставил его зажмуриться. Электронный циферблат часов на полке над ванной показывал 4.47. Помочившись, он опустил сиденье и вышел, не слив воду. Клем не знал, где в коридоре выключатель, и добрался до кухни при слабом свете, просачивающемся из ванной. Кухонная дверь оказалась закрытой. Войдя, он наполнил стакан минеральной водой из холодильника, выпил и наполнил опять, собираясь взять его с собой в спальню. Он уже почти закрывал дверь, представляя уже, как он опять оказывается рядом с Лоренсией, прижимается к ней, но вдруг остановился, поднял голову и принюхался. Пахло пищей — курицей, маслом, чуть-чуть табаком. И чем-то еще — тот же запах, который он уловил в ванной, только сильнее.
Он вышел в коридор, заглянул в пустую гостиную, затем вернулся на кухню. Не обращай внимания, сказала она, тебе не стоит о нем думать, но он уже вспомнил этот запах, почуянный впервые три дня назад в кафе у церкви Святого Бонифация. Сладковатый ром — специи и сладковатый ром. Поставив стакан с водой на стол, он повернулся к портьере, у которой сидел Эмиль во время их беседы перед ужином. Померещилось ему или она действительно двинулась? Может, складки пошевелились от сквозняка? В три прыжка он оказался у мойки, рядом с полкой, на которую складывал вымытую после ужина посуду. Отыскал топорик и длинный нож, примерил оба в руке, потом отложил топорик и сжал в кулаке нож. Приблизившись к портьере, он застыл рядом с ней, прислушиваясь. Когда в висках перестала стучать кровь, он, ухватив край материи двумя пальцами, отдернул ее в сторону. Глазам предстала тускло освещенная крошечная комнатка — похожий на монашескую келью альков с узкой неразобранной кроватью, в которой никто не ночевал, и простой деревянный стул. Больше мебели в комнате не было. Ни искаженного яростью лица, ни перепуганного взгляда — только на стуле лежали наполовину съеденная плитка шоколада, книга и пара сложенных очков. Он поднял книгу и поднес ее к свету. Это был Новый Завет в помятом, погнутом картонном переплете — издание, распространяемое французской евангелистской организацией, базирующейся в Алжире. Ленточкой была заложена страница Евангелия от Иоанна. «Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает»[55], — прочитал он, закрыл книгу и потянулся за очками, но, едва коснувшись их пальцами, опять услыхал мягкий звук открываемой и закрываемой входной двери и, через секунду, — звук ожившего лифта, ползущего вниз и приземляющегося с приглушенным стуком. Он поспешил к кухонному окну, но увидел из него лишь сверкающие на фоне беззвездного чернильного неба освещенные лестничные пролеты соседнего дома. Улицу отсюда разглядеть не удалось бы, как не получилось бы заметить и одинокую фигуру уходящего человека.
Он вернулся в комнатку, к кровати, так напоминающей постель отца на острове или сильверменовскую «мечту о послушничестве» в Торонто. Присев на одеяло, чувствуя бедром лезвие ножа, он крутил в руках очки, разглядывая тяжелую оправу, грязные линзы. Затем очень осторожно, словно боясь заразиться от прикосновения, поднял их на уровень глаз, надел и, моргая, стал рассматривать кухню, покосившийся стол, перепутанный узор теней на плитках пола. Конечно, он не знал, какая болезнь одолевала глаза бургомистра — он и про свои-то глаза мало что знал, — но через минуту-другую, напрягая и расслабляя глазные мускулы, ему удалось скорректировать зрение. Мир проступил яснее.
Часть четвертая
3.01. Совокупность всех истинных мыслей есть образ мира.
Виттгенштейн. Логико-философский трактат[56]24
Последний гимн был «Иерусалим», потом пастор произнес свое пастырское слово, потом на маленьком органе заиграли марш. Двери распахнулись: под своды башни вступили Фрэнки и Рэй. Золотые стрелки на голубом циферблате часов над их головами показывали полчетвертого. Фотограф, упитанный ветеран с зубами цвета луковой шелухи, пронзительным голосом сообщил, стоя на стуле, что не может вместить всех в кадр.
— Вы все теперь — одна семья, — кричал он. — Потеснитесь же, ближе, ближе.
Он считал до трех, сверкала вспышка, потом еще одна. Все начали спускаться по церковным ступенькам. Вильям Гласс, в костюме, в котором работал еще в Филтоне, оскользнулся на куче жухлых листьев. Клем помог ему подняться, Лора почистила сзади пиджак. Разукрашенная лентами «альфа» была припаркована у дороги. День выдался такой теплый, что крышу решили опустить. Фрэнки включила двигатель. Весь прилизанный, Кеннет бросил первую пригоршню конфетти, а за ним и другие начали выхватывать горстями из карманов и сумок розовые и голубые кружочки. Машина унеслась прочь, оставив за собой кружащееся красно-синее облако, оседающее на грязную дорогу, траву и придорожные кусты.
Отомкнув дверцы старого «вольво», Клем пропустил внутрь Лору и отца. Позади них был припаркован фургон Фиак. Сквозь лобовое стекло Клэр помахала ему рукой, он махнул в ответ, забрался в машину и минут десять пытался завести двигатель. Они уехали последними и последними подъехали к дому. Пока он выбирал на дорожке место для парковки, пока Лора, раскачавшись, сползала с высокого кожаного сиденья, четверка нанятых музыкантов под натянутым шатром вдохновенно вдарила «Я ни о чем не жалею»[57]. Под тентом уже танцевало несколько пар. В основном это были друзья Фрэнки — мужчины в джинсах и белых льняных пиджаках и женщины, кружащиеся в ярких цветных платьях. Чудаки, идеалисты, любители спиртного, яростные курильщики, поэты, надуватели фондов социальной помощи. Эта с виду несколько хрупкая толпа вплывала в пору зрелости, оказывая ей такое сопротивление, какое могли осилить ее тощие кошельки. Толпа Рэя не материализовалась. Была только его мать и еще две женщины одного с ней возраста, да девушка с пустым взглядом и насморком, да молодой человек с густой челкой и значком на лацкане, объявлявшим «Величие неизбежно (но куда торопиться?)». Дружкой был грек, о котором никому, кроме Рэя, относившегося к нему с большой почтительностью, казалось, не было ничего известно.
По одну сторону шатра стояли столы на козлах, уставленные зелеными бутылками, винными бокалами, жестянками с пивом. Две школьницы в белых рубашках — эти-то откуда взялись? — разносили тарелки с яйцами в колбасном фарше, копченым лососем на ломтиках черного хлеба, сосиски на палочках. Клем разыскал стулья для отца и Клэр. Фиак держалась в стороне, пристроившись со стаканом минеральной воды подальше от танцевавших.