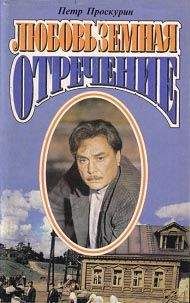Петр Проскурин - Седьмая стража
«Ты бредишь, старик, — сильно побледнев, с угрозой сказал Одинцов. — Какое братство? Какое напутствие?»
«Не кощунствуй даже перед своей собственной душой, ты лучше других знаешь — какое» — остановил его старик, повелительно вскидывая голову.
«Кто же прав? — тихо спросил Одинцов. — По другому мне нельзя, и ты это тоже хорошо знаешь…»
«Я уже говорил, в жизни нет правых, — вздохнул старик. — Забудь и делай свое. Дашь разрастись обиде, погубишь дело. Стало много пророков, а пахарей, упорно и мерно ведущих свою борозду во тьме жизни, все меньше, — хлеба же и счастья требуют все. А пророки больше всего… Успокойся, веди свою борозду, она целительнее разрушительных и бесплодных слов пророков».
«Спасибо, — поклонился Одинцов с больным, беспокойным блеском в глазах. — Кто помнит о земляных червях, хотя они и полезны? Или все бессмысленно? Тяжкий, безгласный труд и высокий подвиг — все в конце концов обращается в прах и нет смысла искать, страдать и жалеть? Так тоже не бывает… Или я оступился — где, когда?» — забормотал он, стараясь встряхнуть и пробудить в себе все прошлое.
«Человек торопится успеть, — пояснил старик, и его брови нависли еще ниже и теперь почти совсем скрыли глаза. — И однако всему свое время, жди! То, что сегодня темно и запутанно, завтра станет ясно малому ребенку, такова жизнь человека, ее закон. Ничто не исчезает бесследно, ни тайное злодейство, ни безымянный подвиг, все в свой срок обретает голос. Не торопи судьбу».
«Но кто же ты, кто? Мне это очень важно, — затосковал Одинцов — странные и темные речи старика вызвали в его душе опустошительную и бесполезную жажду, и хотя он все время знал, что именно об этом нельзя спрашивать, но удержаться не мог. — Зачем ты позвал меня?»
И старик задумался, от бессмысленного и ненужного вопроса его лицо преобразилось, приобрело твердость и определенность, и Одинцов, заслоняясь, отступил. Он даже самому себе не мог признаться в происшедшем дальше. В руках у старика появился большой старый мешок, он сгреб в него груду бумаг со стола, встав и шагнув назад, оглянулся, шевельнул седыми усами, изображая улыбку, и в мозгу профессора вспыхнули слова: «Все забудь, слышишь?» Затем старик встряхнул мешком и исчез в стене, — перед глазами у Одинцова поплыла непроницаемая темень. Очнувшись, постепенно приходя в себя и с трудом встав с пола, он узнал свой просторный кабинет на втором этаже. Он помнил единственное — проступившие в самый последний момент в лике старика свои собственные глаза.
17.
На следующей неделе после трудного, в чем-то даже мучительного разговора с шурином, Меньшенин отправил в отдел кадров института заявление на имя директора с просьбой об увольнении. Зоя с мальчиком по-прежнему находилась в Крыму, и ее возвращения ждали только через несколько дней, — Одинцов послал сестре спокойную телеграмму, с пожеланием не волноваться, отдыхать и набираться сил, а сам еще дважды наведывался к зятю, — душевное напряжение у него нарастало. Однажды, прогуливаясь по Пушкинской площади, он остановился и быстро оглянулся, — перед ним словно бы мелькнуло лицо зятя, заросшее, с провалившимися глазами, безумными от веселой дерзости; кажется, эти сумасшедшие глаза даже подмигнули. Одинцов застыл столбом, мешая прохожим, не зная, что делать, — его опалило неизвестной ему досель нечистой жизнью.
— Алексей! — крикнул он, бросаясь к переходу, но там уже ползли по улице машины, и само собой явилось сомнение, — так, померещилось от волнения последних дней, подумал он, мелькнуло из марева жизни.
Успокоившись, он отправился дальше, хотя что-то заставило его раз и другой оглянуться — себя нельзя было обмануть, он видел именно зятя и узнал его. И Меньшенин заметил шурина, оттого и шарахнулся прочь, успел перебежать через улицу, нырнул в первую же низкую арку, и долго стоял между деревянным мусорным ящиком и полуразвалившейся кирпичной стеной, вдыхая вонь разлагающихся отбросов. Он вспомнил шатнувшееся назад лицо профессора, опустил голову, стараясь понять и объяснить и свою неожиданную резвость. Затем он легкомысленно пожал плечами, — вверху светилось несколько окон, как бы очерчивая тесное пространство старого московского двора, и Меньшенин долго глядел в темное небо, пытаясь нащупать в нем хотя бы малейший просвет — в небе ничего не менялось, в глазах сквозила одна непроницаемая тьма. Он выбрался из своего убежища, что то внезапно вспомнив, похлопал себя по карманам и сразу успокоился. Деньги пока были, можно еще успеть зайти в Елисеевский, вот чуть-чуть приободриться и зайти. Отчего не покуражиться, с прошлым покончено, кое-какие бумаги он отнес вчера единственному, пожалуй, искренне переживающему за него человеку, Жорке Вязелеву, пребывающему, естественно, в полном недоумении, посидел у него, выпил чашку чаю, с удовольствием выслушал скучнейшую проповедь о добродетели и пороке. Почти не отвечая на расспросы, он лишь с нежностью, словно прощаясь навсегда, украдкой всматривался в лицо школьного друга; он любил этого человека, хотел на прощанье сказать ему нечто серьезное и теплое, и не смог. Он задержал дыхание, стараясь успокоить сильнее забившееся сердце и ничем не выдать себя, — ему стало весело от тяжелой озабоченности хозяина, в голове мелькнула довольно забористая шутка. Зная характер старого товарища и ни за что не желая его обидеть, он удержался — что он мог сказать честному и правильному человеку, всю жизнь боявшемуся неудовольствия и кары власть предержащих? И лицо его окончательно прояснилось, — колесо крутанулось и выбросило именно такой билет, больше никаких скидок ждать не приходилось. История, весьма и весьма изворотливая дама, приспособилась обеспечивать сразу трех любовников — прошлое, будущее и настоящее, даже если они почти несовместимы, и хороший человек Жора Вязелев сам отлично все знает, остальное же его не касается. Остальное или слишком личное, или же обжигающее, неподвластное никому постороннему, а значит, и не нужное ему.
Меньшенин медленно брел тем же путем, даже тем же тротуаром, которым минут пятнадцать назад прошествовал и его ученый шурин, после их неожиданной встречи, — другого, более удобного пути к Елисеевскому не было. Он не обращал внимания на встречных, еще довольно многочисленных, но скоро стал с интересом поглядывать на мелькавшие лица, пытаясь угадать, как живут, что думают эти люди, ну, хотя бы вот та пожилая женщина в черном старомодном платье или вот тот, явно навеселе, парень в офицерском, вероятно, отцовском кителе. Все они заняты своим, никто из них не чувствует, как ему плохо и что он стоит уже на последней черте. Единственным человеком, способным его понять сейчас, была Зоя, ее нет рядом, толкуй после этого о прозрении любви, о вещем сердце. Непостижимо устроен человек, тут же усмехнулся он, была Зоя рядом, то и дело вспыхивало раздражение от ее внимания, от ее стремления все предугадать и предусмотреть, а теперь, когда ее нет рядом, она больше всего и нужна. Впрочем, это и есть самая щедрая милость судьбы, слепая удача — ничего не нужно объяснять, изворачиваться, лгать. Она бы, конечно, поняла, смирилась, она бы в конце-концов даже стала гордиться, у нее ведь жертвенность и романтизм в крови, в характере, но он был обречен, он ничего не мог сказать ей даже в мыслях и, думая сейчас об этом, переступал черту дозволенного, нарушал святость тайны, хотя кто бы мог из идущих с ним рядом и тоже обреченных на тьму неизвестности бросить в него камень?
И еще он знал, что любые рассуждения сейчас глупы и наивны, отдают пошлостью, но он был всего лишь человеком и подобные мысли приятно грели, он сегодня уже разрешил себе достаточно много выпить, — теперь нить должна была размотаться до конца. «А зря я нюни-то распустил, к чему? — стал подбадривать он сам себя. — Совсем ни к чему, даже если на тебя рушится потолок!» Он тут же попытался залихватски улыбнуться бежавшей навстречу, дробно стуча каблучками, девушке, — от неожиданности она оглянулась, придерживая шаг, и уже ответная улыбка у нее готова была прорваться, но момент — и девушка, вздернув носик, вновь неуловимо изменилась в лице и поспешила дальше. Что то испугало ее; не теряя присутствия духа, подчиняясь охватившему его желанию не портить настроение другим, Меньшенин двинулся дальше. Днем, перед тем, как идти и передать свои бумаги Вязелеву, он зашел в парикмахерскую и побрился, ему вымыли голову, и теперь, в вернувшемся ощущении своей молодости, ему были приятны взгляды молодых женщин — какой-то будоражащий мотив появился и бродил в нем в этот вечер.
В Елисеевском он взял две бутылки водки; и опять продавщица за стойкой, уже в среднем, критическом возрасте, оценивающе скользнула по его лицу взглядом, и как-то ласково-безнадежно улыбнувшись, тотчас рассердилась, раздраженно повысила голос: «Ну, проходи, проходи! Дальше!» Поняв и пожалев ее, он пробрался к выходу — над Москвой светился редкий звездный вечер. Как и его шурин до этого, постояв у Пушкина и наслаждаясь чувством тишины и покоя, исходившим или от безмолвного и гордого поэта, или откуда-то из глубин самого себя, слабого человека, существа, уже стоявшего на вневременной черте, он долго не решался тронуться с места. «А что вечность? — с неожиданной неприязнью подумал он. — И что такое вечность? Вот такая похожесть бронзы на формы теплого когда-то, искрометного, жаждущего наслаждений и творчества тела? Стоит, дразнит — сделано на потребу бесцеремонной толпе, давно одураченной, ничего совершенно не понимающей в высоком… Нет, что же? — спросил он себя. — Откуда такой снобизм и к кому? Они-то, эти люди, в чем виноваты, их пожалеть надо…» Бросив прощальный взгляд на сумеречную голову поэта, он пошел по Садовому к Никитским, затем почему-то вернулся и побрел в обратную сторону. Надвинулась глухая ночь, под деревьями бульвара стало совсем темно — на скамейках редко угадывались прижавшиеся друг к другу пары. Еще ему встретилась пожилая дама с громадным догом на поводке; у дога светились глаза, дама же, очевидно, была актрисой. Проходя мимо и косясь на пса, Меньшенин услышал шекспировский монолог, произносимый трагическим шепотом: «Вы, быстрые, как мысли, стрелы молний, деревья расщепляющие, жгите мою седую голову!» Он приостановился, готовясь послушать дальше, но громадный зверь, натягивая поводок, резво повлек трагическую даму дальше, — Меньшенин подумал, что перед ним мелькнула даже не жизнь, а ее отражение, какое-то размытое видение ночного города, мелькнуло и пропало, и опять темнели таинственные вершины старых деревьев над головой; их слабый живой шум не мог заглушить остальные звуки бессонного и кем-то давно проклятого и обреченного города. Теперь и Меньшенина охватило другое чувство — что-то случилось со временем, его ход словно оборвался, вечевой колокол прозвонил, и все замерло в пугающей неподвижности. Начался обратный отсчет, время поползло вспять, и теперь уже ничего нельзя было сделать, ничего остановить.