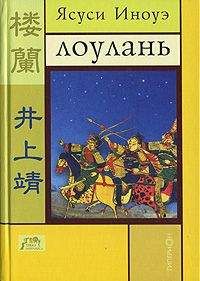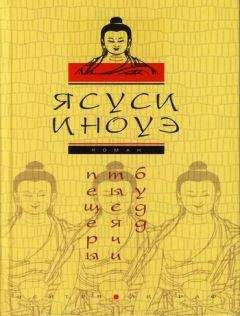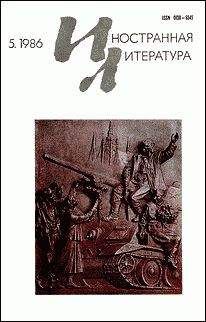Эрнесто Сабато - О героях и могилах
Так начался последний этап моего существования.
С того дня я понял, что нельзя больше упустить ни одной минуты и что я обязан сам предпринять исследование этого мрачного мира.
Минуло несколько месяцев, пока в один из дней нынешней осени произошла вторая, решающая встреча. Я был поглощен своим исследованием, но тут работа застопорилась из-за необъяснимой абулии – как я сейчас думаю, то наверняка была скрытая форма страха перед неизвестным.
И все же я следил за слепыми, изучал их.
Они всегда меня интересовали, и мне при разных обстоятельствах случалось спорить об их происхождении, иерархическом устройстве, образе жизни и ее условиях. Но едва я попытался изложить в печати свою гипотезу об их холодной коже, как на меня сразу же посыпались письменные и устные оскорбления членов обществ, связанных с миром слепых. И все это с деловитостью, быстротой и непостижимой осведомленностью, всегда присущей тайным ложам и сектам: тем ложам и сектам, которые незаметно растворены в нашем обществе и без нашего ведома, пользуясь тем, что мы о них не знаем и даже не подозреваем, непрестанно за нами следят, преследуют нас, определяют нашу участь, наши неудачи и даже гибель. Все это в высшей степени характерно для секты слепых, которые, на беду людей неосведомленных, пользуются услугами нормальных мужчин и женщин, частично обманутых Организацией, частично завербованных слезливой демагогической пропагандой, и, наконец, в большинстве случаев, запуганных физическими и метафизическими карами, каковые, по слухам, ожидают тех, кто дерзает проникнуть в их тайны. Карами, которые меня, кстати сказать, к тому времени, по-моему, уже частично постигли, и я был убежден, что они будут сыпаться на меня и дальше во все более ужасной и утонченной форме; и это – несомненно, из-за моей гордыни – усугубляло во мне негодование и укрепляло решимость довести свое исследование до последних пределов.
Будь я поглупее, я, пожалуй, мог бы похвалиться, что исследованиями этими подтвердил гипотезу, сложившуюся о мире слепых у меня еще в детстве, так как первое открытие принесли мне детские мои кошмары и галлюцинации. Затем, по мере того как я взрослел, усиливалось мое предубеждение против этих узурпаторов, своего рода нравственных шантажистов, которых, естественно, полным-полно в метро – из-за их родственности холоднокровным тварям со скользкою кожей, обитающим в пещерах, фотах, подвалах, в старых галереях, канализационных трубах, бассейнах, крытых колодцах, глубоких расщелинах, заброшенных рудниках, где бесшумно сочится вода; иные же, самые могучие, живут в огромных подземных пещерах, иногда глубиною в сотни метров, как можно заключить из двусмысленных и неполных сообщений спелеологов и кладоискателей, – сообщений, однако, достаточно ясных для людей, знающих, какие ужасы грозят тем, кто пытается нарушить великую тайну.
Раньше, когда я был более молод и менее недоверчив, я, убежденный в истинности своей теории, не пытался ее проверить и даже говорить о ней, зная, что натолкнусь на сентиментальные предрассудки общества, эту демагогию чувств, которая мешала мне преодолеть воздвигнутые Сектой барьеры, барьеры тем более неприступные, чем они утонченней и незаметней, барьеры, состоящие из почерпнутых в школах и в прессе прописях, уважаемых правительством и полицией, пропагандируемых благотворительными учреждениями, знатными дамами и учителями. Барьеры, мешающие проникнуть в те сумрачные окраины, где эти пошлые мнения постепенно теряют силу и где человек начинает прозревать истину.
Много лет должно было пройти, прежде чем я преодолел внешние барьеры. И мало-помалу с тем же огромным и парадоксальным упорством, которое в кошмаре понуждает нас идти навстречу ужасному, я проникал в запретные области, где царит метафизический мрак, различая то здесь, то там – сперва смутно, как мимолетные и неясные видения, а затем все ярче, с убийственной четкостью – целый сонм омерзительных тварей.
Я расскажу, как я добился этой страшной привилегии и после долгих лет поисков и угроз сумел войти в пределы, где действует целое скопище существ, в котором обычные слепые – это, пожалуй, еще самые безобидные особи.
II
Очень хорошо помню тот День 14 июня, день холодный и дождливый. Я наблюдал за поведением слепого, работающего в метро в районе станции Палермо, – невысокий, плотный мужчина со смуглою кожей, чрезвычайно сильный и дурно воспитанный, он курсирует по вагонам, бесцеремонно расталкивая всех, предлагая пластмассовые пластинки для воротничков, пробиваясь сквозь плотную гущу спрессованного люда. В этой толпе слепой двигается напористо и злобно – одна рука протянута, в нее он собирает дань, которую со священным трепетом платят ему злополучные трудяги, а в другой зажаты символические пластинки – ведь не может того быть, чтобы человек жил на выручку от этих пластинок, пара пластинок вам бывает нужна раз в год, ну пусть раз в месяц, однако же никто, пусть он сумасшедший или миллионер, не станет покупать их по десятку в день. Следовательно, логически рассуждая – и все это так и понимают, – пластинки тут чистая символика, нечто вроде вывески этого слепого, его патента на пиратский разбой, отличающий его от прочих смертных, как и пресловутая белая трость.
Итак, я наблюдал за ходом событий в намерении следовать за этим типом до конца, дабы раз навсегда подтвердить свою теорию. Я прокатился бог весть сколько раз от Пласаде-Майо до Палермо и обратно, стараясь на станциях никому не мозолить глаза, чтобы не возбудить подозрений у Секты и не быть обвиненным в воровском умысле или какой-либо другой нелепости в тот момент, когда каждый день моей жизни имел ценность невообразимую. Итак, я держался на близком расстоянии от слепого, но соблюдал осторожность, и, когда наконец в половине второго ночи 15 июня мы совершили последний рейс, я приготовился идти за ним до его убежища.
На станции Пласа-де-Майо, откуда поезд возвращался на свою стоянку на Палермо, слепой вышел из вагона и направился к выходу на улицу Сан-Мартин.
По этой улице мы прошли до улицы Кангальо.
На перекрестке он свернул к Бахо [101].
Мне пришлось удвоить осторожность – в эту зимнюю, безлюдную ночь других прохожих, кроме слепого и меня, на улицах не было или почти не было. Так что я шел в благоразумном отдалении, памятуя, сколь изощрен у них слух и вообще инстинкт, предупреждающий о любой угрозе для их тайн.
Тишина и безлюдье действовали угнетающе, как всегда в этом районе Банков. Районе, ночью более тихом и безлюдном, чем какой-либо другой, вероятно, по контрасту, ибо днем на этих улицах столпотворение – шум, толчея, все куда-то спешат, народу в Присутственные Часы видимо-невидимо. Но, конечно, еще и по причине поистине священного безлюдья, царящего в этих местах, когда отдыхают Деньги. Так бывает, едва разойдутся по домам последние служащие и управляющие, едва покончат они с изнурительным и нелепым своим трудом, когда жалкий бедняк, зарабатывающий пять тысяч песо в месяц, ворочает пятью миллионами, а бесчисленные клиенты, совершая уйму всяческих процедур, кладут на счет наделенные волшебными свойствами кусочки бумаги, которые другие клиенты, совершив противоположные процедуры, забирают из других окошек. Фантасмагорическое, магическое действо, хотя они-то, верующие, мнят себя реалистами и практиками, получая эту грязную бумажонку, на которой, если приглядеться, можно разобрать нечто вроде абсурдного обещания, в силу коего некий господин, даже не подписавший бумаженцию собственноручно, обязуется от имени Государства дать верующему бог знает что в обмен на эту бумажку. И любопытно, что получивший ее довольствуется обещанием, ибо, насколько мне известно, ни один человек никогда не потребовал, чтобы обещание было выполнено; и еще более удивительно, что вместо этих грязных бумажонок обычно выдают другую, почище, но еще более идиотскую, на которой другой господин обещает, что в обмен на нее верующему может быть выдано некое количество вышеупомянутых грязных бумажонок – какое-то безумие в квадрате. И всему этому служит обеспечением Нечто, чего никто никогда не видел и что, говорят, хранится Где-то, особенно в Соединенных Штатах, в подвалах из Стали. А что все это не что иное, как религия, свидетельствуют прежде всего такие слова, как «кредит», «доверенность».
Итак, я говорил, что эти кварталы, освобожденные от неистовой толпы верующих, выглядят в ночные часы более безлюдными, чем все прочие, ибо ночью здесь никто не живет, да и не смог бы жить из-за царящей тут тишины и жуткого безлюдья в гигантских холлах сих храмов и в огромных подземельях, где хранятся невообразимые сокровища. А тем временем могущественные воротилы, заправляющие этим волшебством, спят тревожно, с таблетками и наркотиками, терзаемые кошмарами о финансовом крахе. Ну и конечно, по той очевидной причине, что в этих кварталах нет пищевых продуктов, нет ничего для поддержания жизни человека или хотя бы крыс и тараканов: дело тут в предельной чистоте, характерной для этих арсеналов, хранящих ничто, где все символично и в высшей степени бумажно; и даже эти бумажки, хотя они и могли бы служить пищей моли и другим козявкам, хранятся в огромных стальных камерах, неуязвимых для любого живого существа.