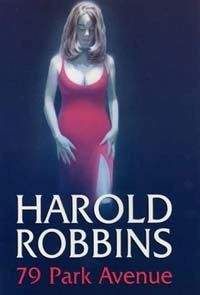Джойс Кэри - Из первых рук
Раздался голос, такой сладкий, что я не различал слов. Женщина до мозга костей. Чаровница. Я сидел с открытым ртом, осклабившись, как боров Цирцеи. Брови не подщипаны, только разровнены и напомажены. Перья из ангельского крыла.
— У вас есть семья, миледи, то есть я хотел сказать — дети?
— Нет, к сожалению.
— Ну, разумеется, нет. В стране Бьюлы детей не рожают.
— Вы считаете, что я не исполнила свой долг?
— Нет, что вы. Ваш долг быть богатой и счастливой.
— Но мы не так уж богаты. — Она смотрела мне в глаза, словно говоря: «Друг, от вас у меня нет тайн». Великолепно сработано! — Муж ужасно пострадал во время кризиса.
— Бедняга.
— Да, ужасно пострадал. Все же, мне кажется, кризис принес не только зло, но и добро. Он заставил подумать о бедных.
— Как же, как же.
— Теперь уже ни одно правительство не допустит безработицы. — Серьезный взгляд, полный сочувствия и политической мудрости. Профитроли в шоколаде.
— Кризис, — сказал сэр Уильям, — несомненно, много способствовал развитию социального законодательства.
— Так же, как и мировая война, — сказал профессор.
— Ах, не говорите об этой ужасной поре, — сказала ее светскость. — Я была еще ребенком, но до сих пор помню эти цеппелины.
— Да, война, пожалуй, принесла не только зло, — сказал сэр Уильям. — Без войны у нас не было бы Лиги Наций. И потом, война научила нас быть всегда наготове.
От этих разговоров на меня напал такой смех, что я захлебнулся и чуть не изрыгнул полстакана вина. Ну и потеха! Сэр Уильям похлопал меня по спине.
— Пожалуй, я разбросаю среди тигров подсолнечники, — сказал я, — и поверну их головками к тиграм.
— Да, да, — сказал сэр Уильям. Он считал, что я пьян.
— Сто гиней, — сказал я. — И дело с концом.
— Нет худа без добра, — сказала леди Бидер задумчиво. Итальянская школа. Кисть Джорджоне. — Как это верно.
— Да, — сказал я, — как нет устрицы без ножа. Вы просовываете его между створками — и устрица в восторге.
— Но, мистер Джимсон, говоря серьезно, разве вы не думаете... в более глубоком смысле?.. — И она обратила на меня свои прелестные глаза. Испанская школа. Религиозный экстаз, кисть Эль Греко.
— Вы совершенно правы, мадам, — сказал я. — Специалист вам из любой дряни конфетку сделает. В нашем поселке глухонемая девчонка родила в тринадцать лет. Ребенка она утопила, а сама глотнула соляной кислоты. Но ее вылечили и упрятали за решетку. Она, конечно, была немного того и буйная.
— Вы думаете, сумасшедшие способны страдать? — Сплошное воркование; ну прямо голубка, которая снесла яйцо. Ах ты, милочка, подумал я. О, дочь Бьюлы!
Она захочет — и создаст ночь лунную и тишину, Плодовые сады, шатер великолепный В кольце песков пустынных и звездной ночи, И нежную луну, и ангелов парящих.
— Прошу вас, мистер Джимсон, еще сладкого.
Сладкого так сладкого. Всегда готов преломить сладкое с ближним своим.
— Еще шоколаду?
О, чудный край Бьюлы!
— Вы абсолютно правы, ваша светлость. Для докторов девчонка была просто находкой. Нет худа без добра.
— Вот еще чем мы обязаны войне, — сказал сэр Уильям. — Успехи медицины. В особенности психиатрии и пластической хирургии.
— Да. Эпоха прогресса. Мать этой девчонки была придурковата и немного глуха. Вышла она замуж за парня, который был еще дурнее и немного чахоточный. Другие ее не брали. И они народили четырнадцать детей. Кто придурковат, кто глух, кто калека, а кто и то, и другое, и третье. Настоящий паноптикум. Чудо, как им удалось выжить. Чудо медицины. Просто диву даешься, каких только детишек не спасают теперь наши врачи.
— Ужасная история. Но наука беспрестанно движется вперед, не правда ли?
— Совершенная правда. И она будет двигаться тем быстрее, чем больше среди населения будет кретинов.
— Вы не верите в науку, мистер Джимсон?
Я засмеялся.
— Этот дом зовется страной Бьюлы. Чудная, милая обитель, где не может быть места спорам, чтобы не будить тех, кто спит.
— Ах, вы ужасный циник, мистер Джимсон!
— Какое там! Но я и не миллионер. Умоляю вас, ваша светлость, ни в коем случае не теряйте ваших миллионов. Это пагубно отразится на вашей живописи.
— Но мы вовсе не богаты. Мы просто бедны. Иначе стали бы мы жить в такой квартире. Правда, Уильям? Где только одна ванная.
— Кстати о ванных. Я хотел бы просить вас об одолжении. Мне хотелось бы написать ваш портрет.
—Надеюсь, не в ванной?
— Нет, в натуре.
— Но я страшно худа, мистер Джимсон.
— Ничего, к вашему лицу вполне подходит худощавая фигура.
— Боюсь, мужу не понравится.
— Пусть не смотрит.
— Гойя, — сказал профессор, — написал герцогиню Альба в двух вариантах — обнаженной и одетой.
— Я видел эти картины, — сказал сэр Уильям. — Превосходные полотна. Столько экспрессии...
— Превосходные, — сказал я. — У обнаженной махи нет шеи, а у махи в сорочке — бедер. Но все равно, что-то в них есть.
— Вам не нравится Гойя, мистер Джимсон?
— Великий художник, писавший великие картины, великоватые для застольной беседы. Один только нос королевы в парадном портрете — целая проблема.
— Лирическая кисть, — сказал профессор.
— Золотая.
Но от Гойи стало слишком шумно. Нос королевы затрубил мне в ухо, и стены Бьюлы задрожали.
— Не надо о Гойе, — сказал я. — Лучше будем любоваться хозяюшкой и потягивать винцо. Когда я могу начать ваш портрет, мадам? Завтра с обеда я свободен.
— Боюсь, у меня дела.
— Нет, нет. Дела могут подождать. Не станете же вы упускать такую возможность? Стать бессмертной, как герцогиня Гойи.
— Еще портвейну, мистер Джимсон? — сказал сэр Уильям.
— С удовольствием. — Я не мог сдержать улыбки. Что, нокаутировали вас, сэр Уильям? Положили на обе лопатки. Теперь вы только тень в стране Бьюлы.
— Нам надо обдумать ваше замечательное предложение, — сказала ее светлость.
— Да, — сказал сэр Уильям, согревая стакан бренди, и голос у него потеплел, голос стал сонным. — Такая честь.
И у каждого мига ложе златое для сладкого
отдохновенья.
И над каждым ложем склонилась дочь Бьюлы,
Дабы насытить спящих с материнской любовью.
И каждая минута в алькове спит лазурном
под шелком покрывал.
А у меня хоть бы в одном глазу! Совсем не хочется спать. Перед глазами, словно праздничная процессия в Эдеме, одно за другим проходят видения. Страна богатых, где древо познания, древо добра и зла, опутано золотой колючей проволокой.
— Да, — сказал я. — Я напишу вас в стране Бьюлы, мадам. И вашу прялку. И ваш шалаш. Всего за каких-то сто гиней. Ну и профессору — пятьдесят. Это же даром за бессмертие.
Глава 24
Когда вскоре после обеда я отправился восвояси, профессор держал меня под руку с одной стороны, а сэр Уильям — с другой.
Спускали они меня с лестницы или вели под локотки, как почетного гостя, — судить не берусь. В «Элсинор» нас доставили на машине — кажется, на такси. Где-то по пути к нам подсел Носатик Барбон. Возможно, профессор заехал за ним. Похоже, что они были знакомы. Носатик и уложил меня в постель.
Более того: видя, что мне трудно улежать в постели — чертовски узкой — и что других гостей раздражает моя веселость, когда сами они в миноре, он остался со мной до утра.
Я был ему признателен, но пожалел, что он не дал мне барахтаться в собственное удовольствие. Особенно утром, когда увидел, как он скис, а мне и без того было кисло.
— Ну, а сейчас ты о ком беспокоишься? — спросил я.
— О м-маме, — сказал он. — Она, верно, прождала меня всю ночь. Она ужасно беспокойная.
— Ты тоже, — сказал я. — Она сама виновата.
— Она уж-жасно, уж-жасно беспокойная.
— Любит тебя, наверно, — сказал я. — Некоторые матери любят своих детей. Это естественно.
— Да, она меня любит, но не одобряет.
— Многие матери не одобряют своих детей. Это естественно. Женщины очень критичны. У них на все своя точка зрения.
— Она не выносит, когда я рисую. Знаете...
Он замолчал. Я знал, что ему нужно. Чтобы я пошел с ним и поговорил с его родителями. Объяснил, что он хочет стать художником. Но голова у меня раскалывалась, глаза жгло, в руках и ногах стреляло, как в пульпитном зубе. Во рту пересохло, как в старом грязном ботинке. Мне не терпелось приняться за работу.
— Ну, хватит дурака валять, — сказал я. — Я и так ухлопал уйму времени и сил на светские обязанности. Чем скорее я впрягусь в «Грехопадение» и кончу его, тем лучше. Особенно теперь, когда можно продать его Бидерам.
— А вы не сходили бы со мной? — сказал Носатик.
— Это еще зачем? — рассердился я. — Тебя что, просили торчать здесь всю ночь?
— Вам было очень плохо. Я боялся, что вы упадете с кровати и расшибетесь.