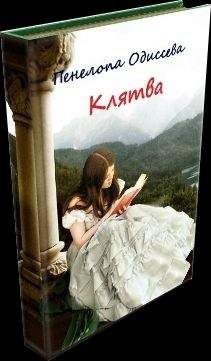Александр Белых - Сны Флобера
— Вот мы уже подъезжаем, — сказал Ямамото, попутчик Ореста.
Ямамото, студент, был собирателем дальневосточных бабочек. «Ну как, бабочку — чжуанцзы поймал?» — шутил Орест. Они с Орестом познакомились в аэропорту на российской таможне. Родинка на правой щеке японца медленно переползла под глаз, словно какой‑нибудь энтомологический экземпляр, и снова нехотя вернулась на прежнее насиженное место. Орест что‑то ответил и снова погрузился в свои размышления, которые потекли в несколько философическом русле.
Ему показалось странным, что мыслил не он, собственно, а мысль совершала свои движения сама по себе, без его участия, мыслила сама себя, отталкиваясь от какого‑нибудь пустяка. И чем дольше это продолжалось, тем трудней было ему определить, что же есть он сам, где он, где пребывает его собственное «я». Есть ли он на самом деле? Мысль была его поездом, его движением, его временем, его смертью.
В какой‑то момент Орест ощутил исчезновение себя. Это было похоже на то, когда в детстве он повторял какое‑нибудь слово, пока не обнаруживал, что совершенно не понимает его смысла. Смысл слова будто бы просачивался сквозь сито. Его сознание тоже куда‑то исчезло вместе со словом. Всё исчезало. Жизнь стремится к исчезновению. Он был мёртв, смотрел чужими глазами сквозь окно поезда, думал о стекле, за которым мелькали пейзажи; стекло было и временем, и мыслью. Кто‑то наклонился и, не замочив рукава, вынул сновидение из мальчишеского сна. Оресту померещилось, как сквозь окно прошла корова, обернулась, сказала «му», мотнув грязным хвостом. Вдруг он почти физически ощутил, что движется не поезд, а движутся пейзажи за окном; они пролетают со скоростью локомотива.
Что есть движение, и что есть покой?
Это ощущение, исказившее реальность, напомнило ему о первом путешествии, совершенном в раннем детстве вместе с матерью с Запада на Восток. Оресту померещилось, что мимо промчался Флобер, однако его мысль не озарилась интуицией. «Мы все живём, пока пребываем в сознании другого, постороннего — врага или возлюбленного».
Какой‑то осколок прошлого, словно стёклышко на солнце, высветил тёмную область его сознания… И тотчас он почуял въедливый запах варёной селёдки, услышал хруст костей, вслед за этим возникла Марго в красных резиновых перчатках, обрезающая ножницами плавники, отсекающая головы краснопёркам; одна голова соскользнула со стола и шлёпнулась на пол, закатилась под стол; Марго пошарила ногой, не достала; на кончике ножа повисла брусничная капелька рыбьей крови…
Вскоре поезд приехал на конечную станцию. Токийский вокзал, сияющий иллюминацией, был огромен и просторен, полон воздуха, как дирижабль. Казалось, он сейчас поднимется в воздух вместе с прибывающими и отходящими поездами и поплывёт над мегаполисом, над архипелагами. И возникло опасение, что какой‑нибудь мальчик, подражая вырвавшемуся из страны мёртвых Идзанаги, возьмёт копьё и проткнет его, как мыльный пузырь.
Пассажиры поднялись со своих мест, звонкий девический голосок из репродуктора вежливо предупредил, чтобы не забыли свои вещи и впечатления, пожелал ещё что‑то, но Орест уже не слышал что. На вокзале мельтешили сотни лиц; среди них мелькнуло набеленное лицо Исиды, словно подхваченное порывом февральского ветра…
ТОКИО — НАГОЯ — КИОТО
Так мыслился приезд Ореста в Токио. Герман не без любопытства наблюдал, как одна пожилая японская дама прощалась с джентльменом европейской наружности. Он приберёг эту сцену для романа. Словно сорока, которая тащит в свое гнездо всё, что приглянется, он был зорок ко всяким мелочам, ведь роман — это в некотором роде большое сорочье гнездо.
Вдруг мимо них пробежала блондинка в платье, придерживая на бедре сумочку, висящую через плечо. Девушка была чем‑то взволнована, оглядывалась назад, словно спасалась от преследователя. Ремешок на правой туфле порвался, и она слегка прихрамывала. Бежевая газовая косынка развевалась на её шее, и вот от девушки осталась только упавшая на перрон эта косынка. Когда поезд тронулся, подбежал сенбернар и обнюхал её.
…Не косынка занимала Флобера, а мысль о книге. Он бежал через площадь Онсе аргентинской столицы и думал, что книги складываются во сне. Бывает, однажды проснёшься, а у тебя в голове живёт книга. Днём о ней некогда позаботиться, забываешь о ней. Буквы растворяются в твоей крови, разносятся по всему организму, обживают печень, легкие, мозг, превращаются в твоё семя. Книги заботятся о себе сами и выбирают себе хозяина, как псы. Кажется, что первый встречный может стать их сочинителем, как это случилось с Германом Вагановым. Книга может внушить тебе твоё авторство, но книге всё равно, чьим именем будет подписана она. Нельзя же сказать, что ты автор своего сна. Одна и та же книга может присниться одновременно двум персонам: человек думает, что он завёл собаку, а собака уверена, что она завела своего сочинителя. И пишется книга так: куда вильнёт хвост собаки. Где приляжет собака, там и приснится книга. И не спрашивайте: «Мыслит ли собака, есть ли в ней Будда?» Если книга надоест, то её можно зафиндюрить под колёса трамвая. На одном из них когда‑то ездил на службу в библиотеку Борхес, который смотрит ныне из витрин книжных магазинов Буэнос — Айреса; к сожалению, на этих мощенных булыжником улицах трамваи давно не ходят, только пути поблескивают на солнце, словно проблески памяти. Глянцевый, в суперобложке, мистичный Борхес. Он глядит из витрин — слепой, спящий, прозревший, маленький Будда.
ЮГО — ВОСТОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
* * *Над Токио плывёт дирижабль. Какой‑то прохожий — мужчина — европеец — запрокинул вверх голову до ломоты в шейных позвонках. Он жмурится, на губах блуждает улыбка. Его толкают локтями бело — рубашечные клерки, выпорхнувшие гурьбой ровно в двенадцать часов из своих контор на обеденный перерыв, словно сверкающие белыми брюшками ласточки; он продолжает стоять и смотреть. Воздушный аппарат, как огромная океанская рыба. Очевидно, человек впервые увидел дирижабль, по — детски замечтался.
На его гладком подбородке шрам; зачёсанные назад тёмные волосы лоснятся от геля. Он настолько засмотрелся на дирижабль, что не заметил, как замок на его джинсах съехал вниз, ширинка распахнулась и край белой рубашки предательски высунулся наружу. Он потянул воздух носом, почуяв аромат; тщательно сглотнул слюну с табачным привкусом.
Миловидная девушка с букетом нарциссов, купленных в цветочном магазине напротив, краем глаза заметила, как быстро, словно мышка, верх и вниз прошмыгнул его кадык. Вскоре, шагов через пятнадцать, увлечённая новым впечатлением, а точнее шумом и рёвом сирен ультранационалистов вблизи бывшего советского посольства, требующих возвратить северные территории, она уже забудет об этом симпатичном раззяве — европейце. Ночью ей приснился кошмар: когда во сне она целовала этого мужчину, из его рта вдруг выпрыгнула скользкая мокрая мышка и хлестнула по щеке хвостиком. И вот тогда‑то она вспомнила его имя и её губы беззвучно произнесли: «Herumanu».
В сон девушки случайно забежал Флобер. Он обнюхал спящую, прилёг рядом, рычанием прогнал страшный сон; вздремнув немного, он покинул её на рассвете, когда детям спится особенно сладко и крепко. Ах, как любил Флобер детские сны! Флобер бежал по пустынным улицам и переулкам мегаполиса, пока не оказался в сновидениях одной пожилой японской дамы.
* * *Марико Исида, суетливая, вечно бегающая с этажа на этаж своего пятиэтажного билдинга, где расположены и офисы, и квартира, и типография, не имела привычки смотреть на небо, поэтому не могла видеть, что проплывает в нем. Нет, конечно, изредка она посматривала на небо сквозь рифлёное стекло, чтобы узнать, какая намечается погода. Впрочем, зачем ей интересоваться погодой, если о ней всегда можно справиться по телевизору? Ах, да! Чтобы знать, вывешивать на крыше бельё, постиранное накануне, или подождать. Она не сдавала бельё в прачечную — не из скаредности, а из природной женской бережливости. По привычке она полагалась не на свои ощущения, мысли или интуицию, а на телевидение; оно предлагало готовые решения на всякий случай жизни и готовые суждения по всем проблемам. Эти суждения были упакованы в словесные формы, а дикторы задёшево отоваривали ими потребителей, как продавщицы на сезонной распродаже. Дом её находился в даунтауне в пятнадцати минутах езды на велосипеде до императорского дворца и департамента миграционной службы, вблизи всего — всего.
Последние ночи были беспокойными. Ей почти ничего не снилось, но она всё время думала о мальчике из далёкой варварской страны. В сердце каждого человека заронена сияющая золотая крупинка. Иногда её грани начинают досаждать, подобно камешку, закатившемуся в ботинок. Желание совершить добро связывалось в её сознании с двумя странными видениями прекрасного нагого мальчика. Это видение неожиданно материализовалось в образе Ореста. Желание, с трудом поддающееся объяснению, как всякий чувственный порыв, было настолько сильным, что эта золотая крупинка вдруг стала плавиться в сердце стареющей женщины. О, какое было приятное, сладкое жжение!