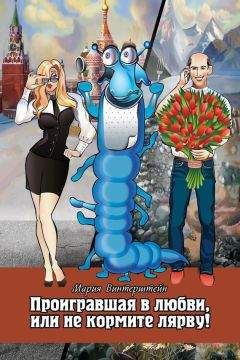Уильям Стайрон - Уйди во тьму
— О-о… — начала она, глядя не на Элен, а на Лофтиса. — О Господи! О!
Элен тоже поднялась, и, подражая ей, вдруг встала начавшая плакать Моди. Остался сидеть только Лофтис, словно парализованный, наблюдая за ними. Испуганные всхлипы Моди перекрыло новое «о-о!» Пейтон, а Элен, все еще в фиолетовой шляпе, по-прежнему косо перекрывавшей ее лоб, выпучив глаза от сознания происходящего, искреннего раскаяния или сожаления, а может быть, просто сожаления, конвульсивно прижала обе руки ко рту и начала всхлипывать.
— Я хотела сделать… — начала она.
Но никто ее не слушал. Пейтон сорвала с себя шляпу, швырнула ее на пол и, рыдая, бросилась мимо Лофтиса вон из дома. Он был потрясен. Прошла не одна секунда, прежде чем он смог подняться и крикнуть с жалким пафосом:
— Элен, ей-богу, хватит!
Но она в это время уже убежала в вестибюль, таща за собой Моди, и он услышал ее обезумевший голос, говоривший в телефон:
— Кэри! Нет. Да. Могу я поговорить с мистером Карром?
Лофтис схватил пальто Пейтон и свое и вышел вслед за ней на улицу. Было ужасно холодно; по каменным плитам была прочищена дорожка к дамбе, и тут, над пляжем, он обнаружил Пейтон. Она стояла одна; он набросил ей на плечи пальто.
— Детка, ты схватишь воспаление легких.
Она ничего не сказала в ответ — лишь кивнула и вздрогнула.
— Пойдем теперь назад.
— Нет.
— Детка…
— Говорю тебе: нет!
— Послушай, детка…
— Нет.
— Послушай же, детка…
— Нет.
— Послушай, детка, мы возьмем машину и поедем в Олд-Пойнт, в отель, выпьем и все обсудим. Не так уж все скверно. Она уже сожалеет… — Он лихорадочно придумывал, чем ее умаслить — только бы удержать ее возле себя. Но ничто не срабатывало. Он повернул Пейтон и, вытерев слезы, прижал к себе. — Послушай, детка…
— Она сумасшедшая. Абсолютно, зайка. Абсолютно свихнулась. — Она прижалась головой к его плечу. — О, это невыносимо!
— Да, — сказал он.
— Я никогда больше сюда не приеду.
— Нет, — хрипло произнес он. — Нет, это неправда.
— Нет, правда, — сказала она и крепко обхватила его за талию.
Пошел снег; за покрытым льдом пространством залив был черным как сумрак, как отчаяние, и крейсер быстро проплыл по нему, направляясь на войну и в ночь, а ночь в такой холодный день скоро настанет. Лофтис поцеловал волосы Пейтон, ее лоб.
— Детка, — прошептал он, — не покидай меня. Я так тебя люблю.
— Зайка?
— Да.
— Я старалась поступать как надо. Ты думаешь, когда-нибудь все станет о’кей? Я старалась, зайка, я старалась. Ты считаешь, что это так?
— О да, детка. Господи, да.
— По-моему, я хорошая девочка. Я делала только то, что нормально. Ох, зайка, я… — Дрожь прошла по ее телу. — Холодно.
— Ш-ш-ш. Все это останется позади.
Но ведь это правда: она уезжает, и он чувствовал, что она никогда не вернется. Он чувствовал это все время, когда они днем сидели вдвоем в гостиной. Элен была наверху. Их друзья — Олбрайты, молодая пара с глазами, ищущими, что бы выпить, — явились позже, и Пейтон угостила их остатками яичного коктейля с ромом. Они пробыли слишком долго, слишком много болтали и лишили Лофтиса малейшего шанса поговорить с Пейтон, а когда они, продолжая болтать, пошли к выходу, то столкнулись в дверях с Диком Картрайтом, который приехал за Пейтон на своей новой машине с откидным верхом. Пейтон уложила чемодан, избежав встречи с Элен. Она только сказала, что они собираются закончить каникулы в доме родителей Дика в Раппаханноке. Снег перестал идти. Воздух был сырой и холодный, и дома вверх и вниз по улице с тускло освещенными окнами выглядели затихшими, словно все наконец устали от Рождества.
— Поезжай осторожно, сынок, — сказал Лофтис. — Напиши мне, детка. — И поцелуй с ней через окно машины не был ни сладким, ни настоящим, а лишь горьким прощанием с сомнительно проведенным временем. — Возвращайся скорее, — сказал он и в отчаянии добавил: — Все будет в порядке.
Но она лишь печально улыбнулась ему и подмигнула.
— Попрощайся за меня с Моди, — сказала она; стекло мягко поднялось, разделяя их, и машина покатила в арку из обледеневших платанов.
В доме, залитые светом с елки, лежали нераскрытые подарки, в том числе и подарки для Пейтон. Лофтис налил себе выпить. Вот если бы он мог уехать на войну, думал он, получить звание, все разрешилось бы… Это ничтожество Эдвард с его дешевым высокомерием… Наверху, в комнате Элен, горел неяркий свет. Лофтис выпил четыре порции подряд и спустился по лестнице.
— Элен, — крикнул он вверх, — вы сущий кошмар, вам это известно? Почему, черт бы побрал вашу душу, я…
Но что он пытался сказать, да и к чему это? Вместо злости он почувствовал лишь безмерную омерзительную жалость. Так или иначе, Элен не откликнулась. Он включил радио — голос эстрадного певца пел о белом Рождестве, и хор тромбонов источал в темноту тягучие синтетические звуки.
Лофтис позвонил Долли, но ее снова не было дома. Наконец, когда в восемь часов пришла Элла мыть посуду, он стал ей помогать, весь в мыле, пьяный, с внезапно обуявшим его слезливо-сентиментальным восторгом. «Возвести это на горе» они спели вместе, хотя Элла и не одобряла этого.
— Похоже, вовсе вы не празднуете Рождество, — сказала она и, подняв высохшую руку, отодвинула в сторону его стакан, — похоже, вы только напиваетесь.
— «Возвести это на горе, — пропел он громко и смело, — и за горой и повсюду, что родился Иисус Христос».
А потом…
— Спокойной ночи, Элла, — сказал он. — Счастливого тебе Нового года. Подарок на Рождество! — Сунул ей в руку пять долларов и, наконец, ощупью поднялся наверх, прошел мимо затемненной комнаты Элен, откуда раздавался надрывный храп — какие же ей снятся сны? — и лег в постель, думая о Пейтон, чуть не плача.
Это было в Рождество. Пейтон не приезжала домой ни весной, ни летом, которое она провела в Вашингтоне, в доме подруги по колледжу. Четыре раза в течение лета он ездил один навестить ее. Но память о Рождестве жила в уголке его сознания, воспламеняя его чувства, его дела, и побуждала избегать контакта с Элен в любой форме. Они жили вместе как тени, собственно, как жильцы, по выражению Элен, но как жильцы в городских меблированных комнатах, которые чопорно проходят друг мимо друга по лестнице, оставляя за собой разогретую атмосферу подозрительности и неприязни, и которые, чтобы показать свою воспитанность, одержимо следят за тем, чтобы радио не звучало громко, ванная была безупречно чиста и манеры были безукоризненны. Они редко разговаривали друг с другом — только по делу. Лофтис терпеть не мог эти деловые разговоры — не только потому, что он был вынужден проявлять показную любезность, разговаривая с Элен, но и потому, что сознавал свою продолжающуюся зависимость от нее, поскольку в этом замешаны были деньги. Юридическая практика приносила ему минимальный доход, да и сама практика, состоявшая из составления контрактов и проектов договоров и закладных, была возраставшей скукотой. Правда, постепенно и словно по невысказанной договоренности они с Элен так распределили свою жизнь, что им не часто приходилось переносить эту пытку — смотреть друг другу в глаза. Он чувствовал, что она испытывает угрызения совести по поводу Пейтон. Он заметил, что на комоде рядом с фотографией Моди она держит фотографию Пейтон. Это что-то — по крайней мере хоть что-то — значило. Однажды жаркой, ужасной весенней ночью он услышал, как Элен громко произнесла ее имя во сне — прозвучал испуганный крик «Пейтон!», и, лежа один в комнате, в удушливой, пронизанной лунным светом тишине, он подумал: что же ей снится? Когда в июне, в конце одной недели, он уезжал в Вашингтон, Элен поразила его своей застенчивостью. «Скажите Пейтон, что я шлю ей свою любовь», — сказала она. Он надел плащ; она поцеловала его в щеку — словно перышком провела по его щеке, — этот поцелуй был первым больше чем за год.
Что до Долли — ну, все это время они ловко продолжали свой роман, и это был роман, который мог считаться идеальным для обеих сторон, поскольку в ту пору Долли начала освобождаться от Пуки, как от старого кокона, и Элен больше не тревожила Лофтиса — она была, как правило, молчалива и безропотна и занята Кэри Карром и Моди. Единственной нечестивой нотой, портившей им удовольствие, было то, что Лофтис знал: всем в городе известно про них. И не из-за Элен хотел он держать это в тайне. Он просто хотел, чтобы моральные устои были его плащом, скрывавшим от других то, что смущало его и побуждало чувствовать себя не джентльменом. Доходившие до него омерзительные сплетни жирными летучими мышами висели на его сознании и до самого конца придавали их роману мрачный, тайный, неприятный характер. Люди знали — как знают даже в городах средней величины — их различные уловки, искусно подготовленные и печально прозрачные: как в конце недели он отправлялся в Ричмонд — «встретиться с сенатором (таким-то)», — говорил он Элен, продолжая ненужный обман; Долли, в свою очередь, тоже ехала в Ричмонд. За покупками. По субботам все занимаются покупками в Ричмонде. Или в Вашингтоне. А они время от времени встречались в Вашингтоне, до которого было почти двести миль. «Черт, — говорили в раздевалке Загородного клуба, — вы же знаете, как Милтон добивается своего». Все знали, подтверждая тот факт, что в пригороде порок, как и обгоревший нос, невозможно скрыть. Разговоры об этом шли по всему городку — точно рой пчел лениво садился на изящной солнечной веранде, чтобы снова взлететь и усесться с деловым перешептыванием среди благовоспитанных дамских четверок, осторожно беседующих на поле для гольфа, под благозвучные удары мячей и осторожное одергивание слишком затянутых трусов. Все знали про их роман, и все об этом говорили, и по какой-то врожденной, не покидавшей Лофтиса чувствительности ему не стало бы легче, если бы он знал, что всем в общем-то это безразлично.