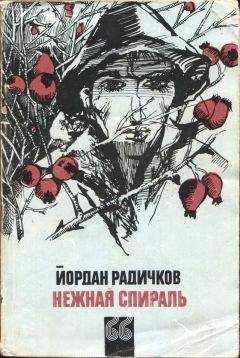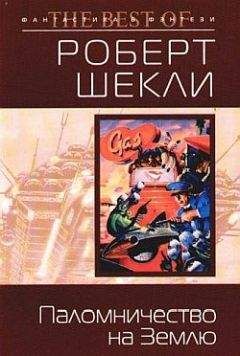Йордан Радичков - Избранное
Милойко исчезает в темноте, и только тогда я перевожу дух, жена смотрит на меня, тоже вздыхает, крестится и снова принимается клеить карточки. Я ничего не говорю, и она ничего не говорит. Каждый раз, как Милойко заходит чуть свет и берет мешок с мукой, я думаю о том, что он станет делать, если его накроет полиция, но я ни разу его об этом не спросил. И жена не спрашивает, молчит целыми днями и только вечером, когда слышит, что к пекарне приближаются Милойковы мулы, вздыхает шумно. «Добрый вам вечер!» — говорит Милойко, похлопывая мулов прутиком. Утром он мне одному говорит «доброе утро», а вечером здоровается с нами обоими. «Добрый вам вечер!» По голосу слышно, что на душе у него легко. И у нас груз с души сваливается.
Жена клеит карточки, копыта мулов затихают на улице, тогда я открываю заслонку и начинаю вытаскивать готовые хлебы. До рассвета еще далеко, но у нас в городке народ рано начинает сновать по улицам — кто за дровами в горы отправляется, кто в карьеры Беговицы, кто на станцию, а цыгане, закинув на плечи длинные жерди, тянутся группами в горы — сбивать каштаны. Один за другим люди заворачивают в пекарню. «Доброе утро, дядя Ангел». — «Доброе утро», — отвечаю, отрезаю ножницами талон от карточки и продаю хлеб, а жена поднимается в комнату наверху ставить новое тесто.
Цыгане, когда заходят в пекарню, зябко ежатся, и каждое второе слово у них «комиссариат». Если они не сбивают в лесу каштаны, значит, они сидят на корточках перед комиссариатом, а если их не видно перед комиссариатом, значит, подались в лес сбивать каштаны. Комиссариату цыгане осточертели, но когда они долго не появляются, чиновникам становится скучно, потому что не над кем потешаться… В пекарне цыгане зябко ежатся, а как немного отогреются, начинают друг дружку подталкивать — мол, пора выходить, по дороге уволокут буханочку, и каждый говорит другому: «Пошли, что ль, время-то уж позднее!» Они вскидывают на плечи длинные жерди, и я слышу, как они переговариваются на ходу: «Вот житуха у дяди Ангела: своя пекарня, пеки хлеб да ешь, пеки да ешь сколько влезет! Ох, холод-то какой! Лопнуть мне на этом месте, если в горах иней не лег!»
Первую выпечку я распродаю еще до восхода солнца. И еще до восхода солнца отбираю сухие буковые дрова, второй раз растапливаю печь и поднимаюсь в комнату наверху, где мы с женой снова начинаем разделывать тесто. Каждый день я по два раза сажаю и вынимаю хлеб, а в субботу — три раза. В воскресенье мы не работаем.
Так оно шло изо дня в день, из года в год, тесто высосало из нас с женой все соки, раскаленная печь нас высушила. Дети, которых мы народили, выучились и разбрелись по свету, и снова мы с женой остались одни. Каждый день на две выпечки тесто замешиваем, в субботу — на три. И конца-края этому не видно, люди все голодные ходят, и как это господа угораздило так установить, чтоб человеку по три раза на дню есть надо было. По три раза на дню, и чтоб каждый раз на столе хлеб был. Ни свет ни заря начинаем в пекарне работать, и все, что ни выпечем, народ подчистую съедает. Оглянешься — будто и не работал. Бывает, зайдут знакомые поболтать, шутят: «Как это так, все ты месишь хлеб, и все его нету!» — «Ничего, — говорю я им, — вот как мы с женой сделаем однажды хлеб величиной с Тодорины Куклы, да выпечем его, да положим посреди города, и пусть, кто бы куда ни шел, отрезает себе сколько надо, и из деревень кто приезжает в базарный день, пусть себе режут и увозят телегами, и чтоб конца ему не было! Вот какой хлеб мы с женой однажды выпечем — вы как на него глянете, у вас шапки попадают!»
Есть у нас один каменотес, Леко Алексов, так он не верит. «Вы, — говорит, — если выпечете такой каравай, так я слово даю, когда ты помрешь, поставлю тебе памятник высотой с Тодорины Куклы! Тебе ведь, чтобы твой каравай выпечь, печь нужна величиной с дом! Да где там с дом, с военный сеновал должна быть та печь!» — «Поживем — увидим», — говорю я Леко Алексову.
Я в свое время учился ремеслу у одного пекаря, македонца. У него раньше была пекарня в Пироте, и он там побился об заклад, что может выпечь крендель в двадцать пять метров длиной. Никто ему не верил, потому что никто такого кренделя не видал. Мой македонец закатал рукава, рассучил тесто тонко, как веревку, смерили метром, и оказалось в нем даже чуть больше двадцати пяти метров. Тогда он уложил тесто кругами и посадил в печь, а когда оно испеклось и он отодвинул заслонку, чтобы его вынуть, он увидел, что крендель заполнил всю печь. Мастер рассказывал, что ему пришлось сломать устье печи, чтоб вытащить крендель, потому что печь большая, а устье у нее узкое. Так мой мастер выиграл спор и вспоминал потом, что Пирот ел этот крендель целую неделю.
«Я бывал в Пироте, — говорит Леко Алексов, — но что-то ничего про это не слыхал». — «Это давно было, — объясняю я ему, — быльем поросло». И вижу, что он все равно не верит.
У Леко Алексова вечно в глазах сомнение, вечно он глядит с прищуром. Наверно, это от камня. Он целыми днями вытесывает каменные кресты и водопойные колоды и вечно боится, как бы камень не треснул у него под долотом или осколок не отскочил ему в глаз, потому и взгляд у него такой — смотрит на тебя, но не верит. И характер у него такой — недоверчивый, колючий. Мы, пекари, люди мягкие, работаем с мягким тестом, и сердца у нас мягчеют. В молодости я буйный был, а как с тестом связался, другая закваска в меня вошла, начал я подходить вместе с тестом и постепенно обмяк. В прежние-то времена и буянил я нередко, и в драку лез, а теперь толкусь потихоньку в своей пекарне, пеку хлеб для нашего народишка — каждый день по две выпечки, в субботу три выпечки, — а как погляжу, народишко никак досыта не наестся.
Когда я вынимал вторую выпечку и раскладывал караваи по прилавку, один каравай перевернулся. «Будь он неладен, — думаю, — или руки у меня так ослабли, что я лопату из-под каравая толком выдернуть не могу!..» И пошел к тому караваю, чтоб перевернуть его обратно, потому что мы, пекари, малость суеверны. Да разве только мы суеверны! Народ наш тоже смотрит на хлеб как на что-то святое, хлеб никогда не кладут на стол коркой вниз, высоких гостей принято встречать хлебом-солью, на хлеб нельзя наступать, а в христианские праздники верующие причащаются вином и хлебом.
И вот обхожу я прилавок, но не успел я подойти к перевернувшемуся караваю, в дверях показался Леко Алексов. «Доброе утро, ну как, поспел хлеб?» — «Доброе утро, поспел. Что ты так рано, или не спится? Гляжу, рано ты стал вставать». Леко Алексов смотрит на меня недоверчиво и угрюмо, словно от меня может отскочить осколок и попасть ему в глаз или будто я могу вдруг расколоться пополам, как иногда раскалывается камень под ударом молотка. «Годы, Ангел, годы! Было время, спал как убитый, а теперь и задремать толком не могу, встаю и начинаю среди своих камней бродить, и злость меня на них разбирает. Мы все помрем, сгнием в земле, а камню все нипочем — и не гниет, и не ржавеет. Дай-ка мне поподжаристей!»
Я протягиваю ему хлеб, Леко Алексов отломил кусок, пожевал, оглядел пекарню и вдруг попятился к выходу. «До свиданья!» Я перевернул опрокинувшийся каравай и стал лопатой доставать из печи остальные. Пока все достал, еще штуки три-четыре перевернулись. «Состарился я, значит, — думаю. — Мой мастер, македонец, когда состарился, у него тоже караваи стали переворачиваться. Пожалуй, не придется нам с женой спечь хлеб величиной с Тодорины Куклы и накормить им весь городок и мужичков, когда приедут на базар». Думаю я про это, а люди подходят, я отрезаю талоны, подаю хлеб и слышу одним ухом, как жена наверху скребет квашню, как она ее выметает и чистит.
До рассвета я распродаю весь хлеб, прилавок передо мной — хоть шаром покати. В окно я вижу кучу прогоревшего угля и поленницу буковых дров — кубика два-три. По улице бегут школьники, больше мальчишки, подставляют друг другу ножку, озоруют. «Гляди-ка, — думаю я, — человек с детства учится подставлять другому ножку, сваливать того, кто впереди идет!» Жена выходит из дому, несет карточки в комиссариат. Я снимаю фартук, прикрываю ставни и дверь. Пройдусь теперь по нашей улочке, погляжу, кто что поделывает.
Из одной норы выглядывает продавец тыквенных семечек. Мы с ним знакомы много лет, он приносит мне противни с семечками, и я их жарю в печи. «Ну как?» — спрашиваю. «Сам знаешь, Ангел, я всю жизнь с тыквенным семечком сражаюсь! Его разве одолеешь?» Смотрю — а у него уж и лицо на тыквенное семечко похоже стало. Дальше портной портит себе глаза, наметывает что-то. У него я присаживаюсь ненадолго, цигарку выкуриваю. Повсюду нитки, обрезки, как выходишь от него, обязательно либо к рукаву, либо к штанине нитка пристанет. «Миял, — говорю, — придется тебе брюки мне шить, эти совсем уж протерлись». — «Есть такое дело, сошьем, на то мы и портные, чтоб шить, по силе возможности народ одевать». — «Одеваете вы его, — говорю я Миялу, — а он, смотрю, все голый ходит». — «Вот и я удивляюсь, — кивает Миял. — Я шью и шью, а народишко что ни день, то оборванней».