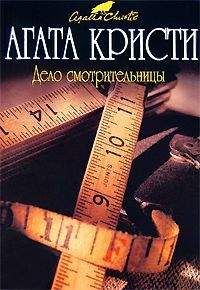Елена Колядина - Под мостом из карамели
– Хлеба точно нет, но, кажется, были леденцы, – Лета поспешно пошарила в сумке и с облегчением извлекла шоколадный батончик и собственноручно изготовленные карамельные монетки.
Она раскрыла пакет:
– Вот, монетки, грызи.
Человек положил леденец на язык.
– Никогда прежде не ел монет. Забыл, ведь у меня подарок для тебя. – Человек вытащил из кармана плаща пожелтевшую открытку с нарисованной белой лилией и надписью «8 марта». – Вот. Это цветок.
– Моя мать продала меня за джинсы и колбасу, – улыбнувшись открытке, вдруг сказала Лета. – И за пачку зелёных гульденов.
– Это не так. Она любит тебя, я знаю.
– Мой папа не стал бы мне врать. Всё равно ненавижу!
– Кого ты ещё ненавидишь в сердце своём, глупое дитя?
– Больше никого, только деньги. – Лета спокойно посмотрела на ветхий плащ. – Мне кажется, тебя они тоже не волнуют.
– Ничего не имею против денег, но истинную цену им легко определить: когда смерть придёт за тобой, предложи ей взамен всё своё золото.
– А она лишь ухмыльнётся в ответ, – со знанием дела ответила Лета. – От смерти может спасти только чудо.
– Ты веришь в чудеса? – шутливо поинтересовался человек.
– Не очень.
– Напрасно. Хочешь, я исполню твоё самое заветное желанье?
– А ты можешь?
– Конечно! Разве по мне не видно? – весело спросил человек. – Как могла ты усомниться?
«Пусть шефа освободят прямо сейчас», – мысленно произнесла Лета. – Ага, загадала. А как я узнаю, что оно исполнилось?
– Просто верь.
– Я верю.
– К дверям темницы уже идет кто-то, у кого в руках ключи.
Они молча смотрели друг на друга, и любовь всего мира, как вселенная перед Большим взрывом, была размером с кусочек сахара и умещалась в одном сердце.
– И всё-таки твоя мать ждет тебя. Никто не умеет так ждать, как матери.
– Я позвоню ей, – сказала Лета. – Прямо сегодня.
Корреспонденты развернули телевизионную аппаратуру высокой чёткости. Пожарная машина выставила дополнительные опоры, необходимые для устойчивости телескопической лестницы.
Толпа зрителей орала и в нетерпении швыряла в воду бутылки. Звериная песня катилась по мосту, как отрубленная голова. Шествие с красными транспарантами заворачивало к эстакаде с Крымской набережной. От Калужской площади спускались чёрно-жёлтые флаги. Двенадцать человек встали поперек моста и растянули белое полотнище с надписью «Пошли нахуй!». Семь женщин, похожих на гербарий, несли плакаты с призывом «Покайтесь!». Двигались одиночные пикеты: «Бога нет!», «Отобрать и поделить!». Стягивались футбольные фанаты и истинные православные. Казаки угрожали монархией. Сигналы машин сливались в систему оповещения.
– Россия – наша страна! – неслось со всех сторон.
А в подвалах под землёй прятались грязные, голодные люди и мечтали, как пойдут резать зажравшихся россиян.
Шеф-повар поднялся из-за длинного стола общей камеры следственного изолятора, ничего не понимая, прошёл за конвойным, приказавшим шевелить клешнями, оказался в пропускнике. Прозвенел звонок, решётчатая дверь распахнулась, через несколько ступеней обнаружилась вторая дверь – железная, с маленьким мутным окошком, – из которой он и вышел на московскую улицу.
Папа энергично прошагал четвертый километр, следя по встроенному в беговую дорожку экрану за новостями рынка акций. Акций у папы не было, но он любил быть в курсе.
Полицейский, превышая скоростной режим, проехал по третьему транспортному кольцу, петлёй с двойным набросом миновал Хамовнический вал и вылетел на набережную. Река несла бурые околоплодные воды. На другом берегу сливались багровые, золотые и чёрные деревья над зеленеющей травой, так что вся вместе картина напоминала полицейскому игровой стол с раскрученной рулеткой.
На дальнем конце моста колыхалась толпа. Проследив взглядом за направлением массового бессознательного, полицейский увидел на вершине пилона двух гадёнышей, нарушавших общественный порядок. Полицейский перестроился, чтобы въехать на мост, но дорогу перегородил невесть откуда взявшийся «кирпич». Остановив машину, полицейский вышел, снял кожаный пиджак, надел форменную куртку с погонами и чётким шагом, гарантирующим окружающим защиту и спокойствие, пошёл к гранитной лестнице. Поднявшись, он обнаружил, что проход и проезд по мосту перекрыт, и деловито продемонстрировал служебное удостоверение.
Папа взялся за поручень, соединенный с индикатором, чтобы проконтролировать сердечный ритм – пульс и давление оказались в норме. Затем папа переключил каналы, перейдя с «РБК» на «ТВ-Центр».
– Далее вас ждёт прямое включение и репортаж нашего корреспондента с Крымского моста. Реклама пройдет быстро!
В кармане папиных спортивных шортов завибрировало и щёлкнуло. Папа извлек смартфон и увидел эсэмэску.
«Папа! Я люблю! И всех-всех людей люблю тоже!»
Счастье обрушилось на папу с такой силой, что он пошатнулся, соскочил с дорожки и затряс головой, отфыркиваясь и выплёвывая кондиционированный воздух. Он так заглатывал и выдыхал радость, что невольно издал горлом сладостный звук, который навёл человека, бегущего по соседней дорожке, на мысль, что папа неплохо провёл прошедшую ночь, каковую теперь и вспоминает.
На экране появился видеоряд – толпа, пожарная и полицейская машины. Но папа так не хотел марать и грязнить наконец-то обретенное им и Леткой счастье очередной новостной чернухой, что с отвращением выключил телевизор, остановил дорожку, пошел в бассейн и долго, с наслаждением плавал в голубой подогретой воде.
Полицейский шёл по разделительной полосе, по узкому ущелью между машин, и думал о мерзавцах на улицах, проспектах, эстакадах и мостах, из-за которых он вынужден выполнять приказы ненавистной власти. Он узнал их всех, ведь у него отличная память на лица. Это они двигались по площади, они были свидетелями того, как он бил их, выкручивал руки, волок их за ноги. И каждый раз, как он увидит их снова, ему придется опять вспоминать, как он предавал себя и свой народ, и это будет длиться вечно, если только не убрать их всех. Народа не должно быть, тогда не будет и его измены народу.
Полицейский остановился, развернулся, поднял голову и взглянул на вершину моста. Лета сидела, прижавшись щекой к груди человека, который любил её, как не любил никто и никогда, и слушала далёкий шум так ценимого ею актуального искусства, в котором объект превратился в действие. Полицейский выхватил пистолет, находившийся в розыске с первой чеченской войны. Человек положил ладонь на невесомое плечо Леты, склонил голову и коснулся губами светлых волос. «Россия – родина космоса!», – прокричал полицейский и произвёл первый выстрел.
Пуля диаметром девять миллиметров вырвалась из ствола, взвилась, ликуя от полёта и открывшейся красоты, пронеслась семьдесят метров и с восторгом пронзила ладонь, тонкое плечо, грудную клетку и вышла из лопатки, дробя её на осколки…
Эпилог
Дурочка и замок
Санитарка морга стояла перед дверями секционной и сердито смотрела на журналиста. Санитарка была дурочкой. Она носила хлопчатобумажные чулки и пахла перепревшей лесной подстилкой. За всю жизнь ни один мужчина не нарушил её женской чистоты, и эта глупость была предметом шуток и поддёвок санитаров и врачей. В ответ санитарка уходила, бормоча, либо замахивалась подручными средствами – ведром или ножовкой. Никто не знал, где санитарка живёт, есть ли у неё родные. И все бы очень удивились, услышав, что в субботу и воскресенье она поёт в церковном хоре. Осенью санитарка подбирала в скверах срезанные озеленителями ветки, привязывала к ним самодельные цветы из бумаги, а весной ходила на кладбища, украшала заброшенные могилы, и из них до зимы торчали тощие вицы с настриженной бумажной бахромой.
В морге санитарка работала более тридцати лет. Её не увольняли, потому что она старательно и даже любовно обмывала и обрабатывала трупы зарезанных бомжей, сожжённых бродяг, повешенных, одиноких, брошенных – всех, кому предстояло быть похороненными за счет муниципальных средств, как неизвестным или невостребованным. Она не отдавала несчастных и падших на поругание, и яростно ругалась с санитаром, норовившим затолкать во вскрытое тело грязную майку покойного вперемежку с рекламными газетами. Иногда в качестве акта благотворительности старший судмедэксперт предлагал санитарке одеть и загримировать востребованного покойного, за что от родственников ей полагалось бы от ста долларов и выше в рублевом эквиваленте. Санитарка польщённо улыбалась, а потом отказывалась и убегала, топая тяжелыми ногами.
Журналист сразу понял, что санитарка дебильная и конкретно тупит. Он презирал эти нищие отбросы за то, что они не хотели использовать огромные возможности, которые Москва давала каждому человеку, готовому целеустремлённо идти к своей цели. Журналист считал, всех неудачников и лузеров из Москвы нужно высылать, чтобы они не занимали места тех, кто действительно стремится взойти на вершины достойной жизни и имеет для этого интеллектуальные возможности. Но у санитарки был ключ от помещения под названием «секционная», в котором находилось тело неопознанного придурка, забравшегося с девкой на мост, поэтому журналист изображал уважение к нелегкой работе женщины-труженицы и заводил разговоры «на равных».