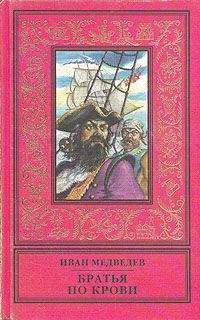Олег Рой. - Амальгама счастья
И опять они молчали, наслаждаясь близостью и доверием друг друга, слушая пение птиц, отдыхая в зеленой прохладной тени кружевных виноградных листьев. А потом Вера Николаевна поднялась со своего удобного плетеного кресла и потянула внучку за руку за собой. Разговор их не был окончен, но Даша не вымолвила ни слова и не задала ей ни одного вопроса — ей, той женщине, что неторопливо вела ее теперь все по тем же комнатам, уже заполненным людьми, и важно кивала в ответ на чужие приветствия — всеми любимая, всем знакомая. И юная ее гостья с удовольствием отвечала им тоже, знакомым и незнакомым, радуясь ласковым кивкам в ее сторону, ощущая себя наконец-то своей и ища глазами в пестрой толпе того единственного человека, ради свидания с которым она готова была поставить точку в ярком и любопытном зрелище, каким казалась ей теперь собственная жизнь. Но в доме по-прежнему были цветы, и птицы, и люди, и смех, и звенящий шепот, разливались в воздухе светлая грусть и веселая печаль — а Марио не было. Только его не было с нею…
Вот и последний круглый зал; вот и кисейный занавес, тихо колышущийся перед ними. Странное любопытство овладело Дашей. Она кинула на Веру Николаевну вопрошающий взгляд, и та одобрительно кивнула ей; но прежде чем бабушка успела отвести глаза, девушка прочитала в них легкое сожаление и подавленный вздох. Впрочем, теперь это было уже неважно: Даша должна была заглянуть туда, должна была узнать во что бы то ни стало… что именно? Пожалуй, она и сама до конца не понимала этого. Но жадное нетерпение поднималось все выше из самых глубин ее существа, стремление увидеть и понять делалось все настойчивее, и, решительно протянув руку, чуть отведя прозрачное полотно и пытаясь рассмотреть мир сквозь его туманное, бледное марево, Даша наконец заглянула внутрь.
* * *
Комната, которая раскинулась перед ней, была девушке знакома до последней детали, до мелочей, любовно выбранных ею самою, до каждого милого сердцу и памяти пустяка. Это был ее собственный дом, показавшийся ей настороженным, опечаленным и пустым, но при этом странно гармоничным, словно успокоенным наконец, помирившимся с кем-то и свободным от горя. Она видела свет, заливающий все пространство, — день был в самом разгаре, и нежаркое осеннее солнце расплавленным золотом лилось в широкие Дашины окна; видела старое, уже треснувшее зеркало с побитой, поцарапанной амальгамой; и видела себя на полу, рядом с бабушкиным трюмо, уютно свернувшуюся калачиком и словно сморенную неожиданным сном, с которым у девушки не оказалось сил бороться. Что-то неподвижное, застывшее было во всем облике дома — и в окаменевшей мебели, и в пустом зеркале, и в Дашином силуэте на полу, но это не испугало и не огорчило ее.
Все было правильно, все было так, как она и хотела… Но, уже почти готовая отвернуться, девушка почувствовала, что не в силах сейчас сделать этого, не вправе опустить этот занавес: родной дом не отпускал ее, словно кто-то приказывал ей — «смотри!», и она не осмеливалась ослушаться.
Новый взгляд туда, вдаль, новое ощущение, возникшее где-то в глубине души, подсказали ей: что-то не так, неестественно, некрасиво стало вдруг в ее комнате… Это ощущение шло не от слуха, осязания или зрения — это было подспудное знание, весьма непривычное и пока еще малопонятное для Даши, но дающее ей какое-то глубинное понимание происходящего. Древний инстинкт, женская интуиция — это можно было назвать как угодно, и ей не хотелось мучиться с выбором названия: важно, что это ощущение приходило изнутри и сливалось со всем Дашиным существом… Так что же, что не так стало в комнате? Что снова мешает ей и мучает ее?…
А, вот, поняла она. Лишние движения, ненужные звуки! Именно они показались Даше нарушителями той мертвой, но гармоничной неподвижности, которая завладела ее домом. Громкие посторонние звуки, напрасно колышущие застывший воздух квартиры: надрывающийся телефон, натужный стук в дверь, людские голоса на площадке, чей-то оклик: «Даша! Открой!..» Все было внешним, искусственным, навязчивым, все врывалось в ее покой, нарушало ее замысел, все мешало ей повернуться, уйти и навсегда забыть об этом…
Девушка и сама не понимала отчего, но ей было явно неприятно следить за тем, что происходило или должно было произойти в этой комнате. Однако что-то держало ее до тех пор, пока, напрягая уставшее зрение, она не разглядела сквозь тонкую кисею новую фигуру, появившуюся рядом с той Дашей, склонившуюся над ней — и отпрянувшую в ужасе. Фигура обрела черты Игоря, затрепыхалась, запрыгала, замахала руками — девушка видела его лицо близко-близко, во всех подробностях мимики, словно в полевой бинокль, и даже кисея, сквозь которую она наблюдала за действием, не смягчила и не облагородила тех чувств, что метались сейчас на Игоревом лице. Сожаление быстро сменялось на нем досадой и гневом, мелькнувший было стыд растворялся в немеркнущей алчности, и весь этот адский коктейль выплеснулся наконец в беспомощной злобе, когда человек по ту сторону занавеса принялся трясти и бить по щекам девушку, распростертую у старого трюмо, пытаясь привести ее в чувство и добиться от нее хотя бы слова. Даше видно было, как насмешливо и печально отражало всю эту сцену старое зеркало, как плясала и дергалась марионеткой нелепая мужская фигура над неподвижным телом, и, устав довольно скоро от бездарного и неизобретательного спектакля, Даша выпустила легкую ткань занавеса из рук и досадливо отвернулась в сторону.
* * *
Отвернулась — и мгновенно освободилась, очистилась от мешающих звуков, раздражающих видений, нервных покалываний в сердце. Ничего, кроме мерцающей чистой радости, не осталось в ее сознании, потому что Марио стоял рядом с ней — все такой же близкий, желанный, нужный, родной. Его глаза внимательно и мягко смотрели на девушку, на губах трепетала улыбка, а ладонь осторожно и бережно касалась края ее платья.
— Я ждала тебя, — просто сказала Даша, и он ответил так же просто и искренне:
— Я знаю, carissima… Я тоже ждал. Мне было трудно без тебя.
— Я больше не уйду, — поторопилась пообещать ему девушка. — Все решено, я остаюсь — навсегда!
Он, казалось ей, не отреагировал должным образом на эту новость, и она весело и мечтательно повторила:
— Навсегда… Не правда ли, какое решительное слово! Марио промолчал, но в глазах его что-то изменилось — будто тронулась с гор лавина, сметая осторожный покой, и все вокруг пришло в движение и смятение. Потом он легко коснулся чуть жестковатыми сухими губами ее губ, прижал ее крепче к своей груди, и у Даши перехватило дыхание, подогнулись колени, а голова закружилась, как когда-то в юности от первого пьянящего поцелуя. Страсть и желание закружили ее, отняли силы, лишили разума. Марио вдруг отстранился и заговорил медленно, точно про себя, и взгляд его устремился вдаль, сквозь Дашу, в далекий город, который ему никогда не довелось видеть.
— В Москве сейчас день, и идет дождь — как странно для осени: дождь сквозь солнце! Все сияет, омытое этими солнечными каплями, — дома, и купола, и деревья, все еще не потерявшие до конца своей желтой листвы… И люди идут по широким улицам, смеются и спорят о вечном; и горит свеча в православном храме; и кто-то пьет кофе с коньяком, а потом гадает на кофейной гуще; и парочка целуется на остановке, а кошка умывается в высоком окне… Детская коляска задевает колесами лужицу — и тысячи мелких капелек взлетают за ними, и в каждой капле горит частичка солнца… Я никогда не был здесь и уже не побываю никогда. Ты права, Даша, какое решительное слово! Только я бы добавил еще — безнадежное…
Изумленная и опечаленная — впервые ей приходилось утешать его, — Даша попыталась было сказать что-то, но осеклась, заметив, что он не слышит ее и по-прежнему смотрит сквозь девушку невидящими глазами. Голос его был монотонен и тих, и говорил он так, будто рассказывал себе или Даше чудесную сказку или делился несбыточной мечтой.
— Меня не будет в Москве — никогда, никогда… И никогда уже не будет в Женеве. Не будет нигде, ничего…
— Нет!.. - вскинулась девушка. — Ты хочешь сказать?… — И поскольку он будто не слышал ее, продолжая смотреть в невидимую для нее даль, она обеими руками повернула к себе его голову и заставила посмотреть прямо в глаза. — Послушай, любимый мой, это ничего. Ты же сам говорил — разлука никогда не бывает долгой… И что тебе Москва или Женева, что тебе целый мир, если я буду с тобой?
— А?… — Он взглянул на нее, словно только что очнулся от глубокого сна, точно видел впервые или никак не мог узнать черты, некогда любимые, но давно растаявшие в дымке времени. И, узнав наконец, вернувшись к ней, промолвил, грустно улыбаясь, с недоверчивым выражением в глазах: — Это ты, carissima… Ты все еще хочешь остаться? Ты отказываешься от… от всего? Да понимаешь ли ты, что ты делаешь?