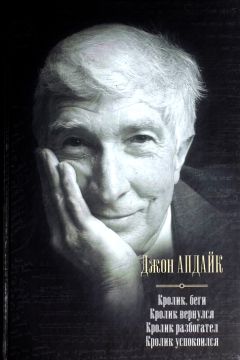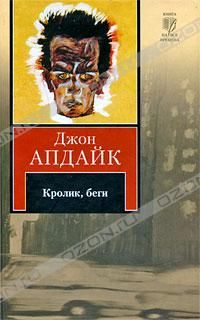Джон Апдайк - Кролик разбогател
Дженис снова поворачивается к нему спиной и замечает:
— По-моему, это хорошо, что она немного старше его.
— Почему?
— Ну, Нельсону нужна твердая рука.
— Девчонка, которая ложится под мужика, а потом отстаивает право на жизнь ребенка, не представляется мне «твердой рукой». А что у нее за родители?
— Обычные люди из Огайо. Отец ее, по-моему, слесарь-паропроводчик.
— Ага, — говорит он. — Рабочий. Значит, она выходит замуж не за Нельсона, она выходит замуж за «Спрингер-моторс».
— Совсем как ты в свое время, — говорит Дженис.
Он должен был бы обидеться, но ему это даже нравится — то, что она теперь считает себя как бы наградой. Он кладет руку на мягкий изгиб ее талии.
— Послушай, — говорит он, — когда я женился на тебе, ты продавала соленые орешки у Кролла, а мои родители считали твоего папашу пронырой, который кончит свою жизнь в тюрьме.
Но кончил он жизнь не в тюрьме, а на небе. Фред Спрингер завершил свое долгое восхождение по древу в звездное небо. Затерялся в пространстве. Сейчас этим путем следует Дженис — касание его руки погружает ее в сон, а он чувствует, как запульсировало ниже живота, что может служить сигналом успешной эрекции. Ничто так не возбуждает, как мысль, что ты трахаешь деньги. Он недостаточно часто владеет ею, его бедной тупой мошной. Она заснула голая. А когда они только поженились, да и многие годы потом, она надевала бумажные ночные рубашки, в которых выглядела как на рекламе «Пора на пенсию», но в семидесятых начала иногда появляться в постели без ничего, ее маленькое, все еще аккуратное, гладкое, как змея, тело было смуглым там, где его не закрывает теннисный костюм, с менее смуглым животом там, где его оставляет открытым купальник из двух частей. Как быстро высыхали сегодня отпечатки ног Синди на плитах! Странная вещь: он никак не может представить себе соитие с ней — ведь это все равно что смотреть на солнце. Он поворачивается на спину, раздосадованный и в то же время довольный, что остался один в тихой ночи, когда можно всесторонне обдумать все новое, что на тебя обрушилось. В зрелом возрасте ты в определенном смысле несешь на своих плечах весь мир, и, однако, как и прежде, ничто в нем от тебя не зависит; твое детское «я» все растаскано и роздано, как хлеба, о которых говорится в Евангелии. Гарри прислушивается к звуку шагов, выскальзывающих из комнаты Мелани — нет, Пру: она ведь проделала сегодня большой путь и увидела столько новых лиц, этот вечер был для нее наверняка нелегким. Пока мамаша и Дженис наскребали что-то на ужин — тоже своего рода чудо, — девчонка сидела в бамбуковом плетеном кресле, принесенном с веранды, и они все обходили ее, как машины обходят на шоссе место аварии. А Гарри почти не отрывал глаз от этой взрослой женщины, которая сидела такая скромная и чужая и заметно раздавшаяся. От нее исходила забытая им атмосфера чудесных школьных лет, когда девчонки нежданно-негаданно расцветают в тени железнодорожных переходов, у телефонных столбов, близ шоссе с покореженными алюминиевыми разделителями посредине, вырвавшись от разжиревших матерей и отцов, придавленных беспросветными днями труда в этой Америке, усеянной пробками от бутылок, этикетками и осколками разбитых глушителей. Кролик вспоминал, как вот такая же красота, какую он увидел в Пру с ее длинными руками в пушке, тонкими запястьями, на которых звенят браслеты, и небрежной волной блестящих волос, попала в бурный поток жизни и, словно прутик, канула в водовороте.
Дженис вздыхает во сне. Мимо проносится машина с открытым окном, следом за ней летят передаваемые по радио танцевальные ритмы. Канун Дня труда — конец чего-то. Кролик чувствует, как дом под ним разбухает, наполняясь проснувшимися мертвецами. Ушлый, папа, мама, мистер Абендрот. На буфете выцветает фотография Фреда Спрингера — по-прежнему пылают лишь красные пятна на щеках да там, где на переносице остались следы от очков. Гарри вспоминает девчонок из Верхнего Маунт-Джаджа, какими они были в сороковые годы: толстые свитера и дешевые бусы под жемчуг, белые блузки, сквозь которые просвечивают бежевые лифчики, юбки, всегда только юбки, длинные, как халаты, развевавшиеся в уставленных шкафчиками коридорах и проходах и вдоль железных труб, ограждавших глубокие цементные колодцы, по которым проникает свет в подвал магазина, длинные юбки, сидящие рядами в музыкальных комнатах, туфли на котурнах и короткие белые носки, — девчонки, от которых исходил зимний холод, как сигаретный дым, их жакетки в горошек — никто тогда не ходил в куртках, — темная помада, так что все они выглядели как Рита Хейуорт на старых ежегодниках. Как дразнили эти юбки, доходившие почти до носков, — найди меня, если можешь, сделай смелое открытие — волосня, ноги, застенчиво раздвигаемые в узком пространстве машины, влажная промежность трусов, первой его девушкой была Мэри-Энн, трусы ее спущены на туфли-котурны, похожие на ловушку для зверей, мотор продолжает работать, чтобы обогревать папину старую «де-сото», которую ему разрешали брать один вечер в неделю, невзирая на все возмущения и насмешки Мим. А Мим была плоскогрудой девчонкой почти до семнадцати лет, когда у нее начались свои тайны. Запах между ног Мэри-Энн напоминал о раздевалке, только был нежнее. Она вышла замуж, пока он был в армии. Он просто поверить не может, что она предложила кому-то другому приобщиться к своей тайне из тайн. Отошедшие в прошлое дни, погребенные в глубине его мозга, в серых клетках, миллионы которых, как он где-то читал, отмирают каждый день, унося с собой во тьму его жизнь, его единственную жизнь, триллионы, говорят, электрических разрядов, даже самый большой компьютер по сравнению выглядит недотепой, — вспомнив и снова войдя в то время, он замечает, что член не опал, а лишь еще больше затвердел, процесс продолжается, крошечные мешочки крови ждут, когда вновь оживет нужная часть мозга и пошлет им приказ. Стараясь не разбудить Дженис, он мастурбирует левой рукой, по-прежнему лежа на спине и вспоминая Рут. Ее комнату на улице Саммер. Их первый вечер, когда после этого печального бега с покойным Тотеро он очутился в уединении той комнаты. На этом островке, среди четырех стен, в ее комнате. Она сбросила одежду с полного белого тела и принялась тыкать в его жокейские трусы. Руки ее, такие тонкие-тонкие, пригвоздили его к постели, и над ним появился длинный гладкий торс.
Эй.
Эй.
Ты красивая.
Перестань, работай.
Он входит и кончает, потолок нависает над ним, тело его изгибается, словно привязанное к шару, который все набухает, набухает, и он чувствует, как его семя извергается на простыню. С большей силой, чем когда накачиваешь в темную глубь. Странно, чтоб такое случилось с немолодым мужчиной. Он соскальзывает с кровати и ищет в ящике носовой платок, стараясь не скрипеть, чтоб не разбудить Дженис, или мамашу Спрингер, или эту Пру — столько дырок окружает его. Вернувшись в постель и постаравшись как можно лучше убрать после себя, хотя мокрое место появляется там, где его не ждешь, возможно, ты не сразу чувствуешь, когда началось извержение, — и он пытается заснуть. Думая о своей дочери — ее бледное круглое лицо появляется перед его мысленным взором, молочно-белое, спокойное. И слышится шепот: «Хасси!»
Преподобный Арчи Кэмпбелл является с визитом несколькими днями позже — как условились. Он маленький, щупленький, зато голос у него глубокий и бархатный — не говорит, а изрекает, и так небрежно, улыбчиво и звонко роняет слова, что они летят по улице и заворачивают за угол. У него слишком крупная, по сравнению с телом, голова. И длинные заметные ресницы — он иногда закрывает глаза, словно желая продемонстрировать дрожащие веки. Обрядовый воротничок он носит с тонкой черной рубашкой без пуговиц и пиджаком в крекированную полоску. Когда он улыбается, его толстые, как у президента Картера, губы обнажают ровные, но мелкие зубы с чернотой в промежутках. Гарри интересуют педики — что ими правит, зачем они стали такими.
Мамаша Спрингер предлагает ему кофе, но он говорит:
— Что вы, благодарю вас, Бесси. Это мой третий визит за вечер, еще немного кофеина — и меня начнет трясти.
Фраза заворачивает за угол и удаляется к Джозеф-стрит.
— В таком случае, — говорит ему Гарри, — чего-нибудь более стоящего, преподобный отец. Виски? Джина с тоником? Официально-то у нас ведь еще лето.
Кэмпбелл окидывает взглядом компанию, проверяя их реакцию, — Нельсона и Пру, сидящих на сером диване, Дженис, присевшую на принесенный из столовой стул, мамашу Спрингер, неловко переминающуюся с ноги на ногу: ведь ее предложение выпить кофе отвергнуто.
— Что ж, я, пожалуй, не против, — растягивая слова, произносит священник. — Немножко горячительного может быть очень кстати. Нет ли у вас, случайно, водки, Гарри?