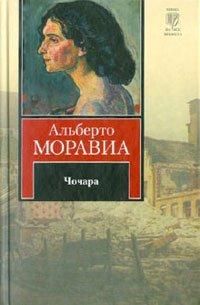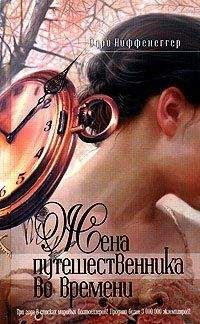Альберто Моравиа - Чочара
Чем мы питались? Один раз в день мы ели немного фасоли, сваренной в воде, добавляя в нее ложечку смальца и немного томатов, маленький кусочек козьего мяса и несколько сухих фиг. Утром на завтрак мы ели, как я уже говорила, сладкие рожки или луковицу с крошечным кусочком хлеба. Хуже дело обстояло с солью, и это было ужасно, потому что еда без соли в рот не лезет, от нее тошнит, она кажется безвкусной, сладкой, как гнилая падаль. Оливкового масла у меня не было совсем, смальца тоже оставалось на донышке. Бывали, правда, счастливые случаи; один раз, например, мне удалось купить два килограмма картошки; в другой раз я купила у пастухов овечий сыр весом в четыреста граммов, твердый, как камень, но вкусный, острый. Однако это было настоящим счастьем, которое случается очень редко и на которое нельзя рассчитывать.
Наступил март, и в природе все заметнее становились первые признаки весны. Однажды утром, глядя с мачеры вниз, мы заметили на склоне горы первые белые цветы миндального дерева; они распустились этой ночью и как будто дрожали от холода, похожие в сером тумане на белые призраки. Нам, беженцам, это показалось счастливым предзнаменованием: пришла весна, дороги скоро высохнут, и англичане будут снова наступать. Но крестьяне качали головой, они знали, что весна несет с собой голод, знали на своем горьком опыте, что их запасов не хватит до нового урожая и старались как можно больше экономить, употребляя в пищу что придется и не прикасаясь пока к основным запасам. Париде, например, расставлял в кустах ловушки для краснозобок и жаворонков, но эти птички были такие маленькие, что можно было почувствовать их вкус, только съев по меньшей мере штуки четыре. Он пытался ловить в западню и водящихся здесь маленьких лисиц ярко-рыжего цвета; ободрав с них шкуру, их вымачивали несколько дней в воде, чтобы мясо стало мягче, а потом готовили с сладким и острым соусом, отбивавшим вкус дичины. Основной едой в это время стал цикорий, но не тот цикорий, который едят в Риме: здесь цикорием называли всякую съедобную траву. Я тоже все чаще прибегала к помощи этого так называемого цикория, часами собирая его по мачерам вместе с Розеттой и Микеле Мы вставали рано утром, брали каждый по ножику и по сумке и шли вверх или вниз по склону горы, срывая разные травы. Вы не можете себе представить, сколько существует съедобных трав; почти всякая трава съедобна. Я знала кое-какие из этих трав, потому что собирала их, еще когда была девочкой, но потом почти совсем забыла их названия и как они выглядят. Луиза, жена Париде, первый раз пошла со мной, чтобы показать мне эти травы, и очень скоро я уже разбиралась в них не хуже крестьян, зная различные сорта цикория по виду и по названиям. Некоторые из них до сих пор остались у меня в памяти: криспин, который городские жители называют крешоном, темно-зеленого цвета с очень нежными листиками и стеблями; заячья трава, растущая на мачерах среди камней, зеленовато-синего цвета, с длинными, тонкими и мясистыми листьями; особый сорт лопухов, плоские мохнатые листья которых, по четыре или пять на одном корне, прижимаются к земле, цвет у них зеленовато-желтый; настоящий цикорий, с длинными стеблями и зубчатыми остроконечными листьями; подорожник; дикая мята; котовик и многие другие. Мы ходили, как я уже сказала, вверх и вниз по мачерам; и нас там было много, потому что все занимались сбором цикория; склон горы представлял собой очень странную картину — весь усеянный людьми, медленно двигавшимися, нагнув голову и уставившись в землю, как души умерших в чистилище. Казалось, что эти люди ищут какую-то потерянную вещь, на самом деле голод заставлял их искать то, чего они никогда не теряли, но надеялись найти. Сбор цикория занимал много времени, два-три часа и даже больше; для того чтобы вышла одна тарелка еды, надо было собрать целый передник травы; но скоро и травы стало не хватать на всех, ее становилось все меньше, так что нам приходилось уходить дальше от дома и подолгу искать ее. Результаты этого труда были ничтожны; сварив цикорий в воде, мы получали из двух-трех полных передников травы два или три зеленых шарика величиной с апельсин. Потом я поджаривала цикорий на сковороде, смазанной смальцем; такая еда если и не была питательной, все же наполняла желудок и утоляла голод. Сбор цикория так утомлял нас, что мы валились с ног от усталости и уже ничем не могли заниматься целый день. А ночью, ложась рядом с Розеттой на жесткую кровать с матрацем из сухих кукурузных листьев, я видела цикорий, бесчисленные растеньица цикория плясали у меня перед глазами, не давая уснуть, пока, наконец, после мучительного полусна начинало казаться, будто я падаю в цикорий, и я засыпала.
Но самым неприятным в это время, как я уже отмечала, были бесконечные разговоры о еде, которыми беженцы пытались обмануть свой голод. Я тоже люблю поесть, признаю, что еда очень важная вещь: без еды невозможно не только работать, но даже серьезно заниматься поисками этой самой еды. И все-таки есть много более важных и интересных тем для разговоров — это повторял нам все время и Микеле, а кроме того, говорить о еде на голодный желудок значило испытывать двойную муку: думать одновременно о голоде и пресыщении Больше всех рассуждал о еде Филиппо. Проходя иногда по мачере, я видела Филиппо, сидящего на камне в окружении группы беженцев, я подходила к ним и слышала, как он рассказывает:
— Вы помните? Достаточно было позвонить по телефону в Неаполь, чтобы заказать обед в ресторане.
Потом вчетвером или впятером, все хорошие едоки, мы садились в машину и ехали в Неаполь. За стол садились в час, а вставали в пять. Что мы ели? Макароны с рыбным соусом, с кусочками рыбы, каракатицами, рачками и устрицами; золотые рыбки или кефаль в жареном или вареном виде с майонезом; рыбу-тунец с зеленым горошком или ломтики меч-рыбы, рыбы-ежа или какой-нибудь другой рыбы, поджаренной на углях; осьминогов, таких вкусных, если их приготовить как полагается Одним словом, в течение двух или трех часов мы ели рыбу всевозможных сортов и со всякими приправами Садились мы за стол такие подтянутые, одетые по всем правилам, а выходили из-за стола с расстегнутыми жилетами и поясами, рыгали так, что дрожали стекла; каждый поправлялся на два-три кило. А выпивали мы за обедом по крайней мере по два литра вина на человека. Не знаю, удастся ли нам еще когда так поесть. Тогда кто-нибудь говорил:
— С приходом англичан вернется и изобилие, Филиппо.
Один раз я стала свидетельницей спора между Микеле и Филиппо во время таких разговоров о еде. Филиппо говорил:
— Хотелось бы мне теперь иметь хорошо откормленную свинью, зарезать ее и сейчас же приготовить бифштексы, жирные, толстые, каждый толщиной с палец и весом по полкило… Сами понимаете: полкило свинины может вернуть человеку жизнь.
Микеле, случайно находившийся поблизости, услышал эту фразу отца и вдруг сказал:
— Это было бы очень похоже на каннибализм.
— Почему?
— Потому, что свинья съела бы, таким образом, свинью.
Филиппо, конечно, не понравилось, что сын назвал его свиньей, он густо покраснел и сказал, упирая на него:
— Ты не уважаешь своих родителей.
А Микеле в ответ:
— Не только не уважаю, но и стыжусь их.
Филиппо был сбит с толку твердым и решительным тоном сына; немного успокоившись, он сказал:
— Если бы у тебя не было отца, платившего за твое учение, ты не смог бы учиться и теперь не стыдился бы своего отца, значит, во всем виноват я сам.
Микеле некоторое время помолчал, потом ответил:
— Ты прав… я не должен был вас слушать… я постараюсь держаться подальше, и вы сможете говорить сколько хотите о еде.
Тогда Филиппо сказал, примирительно и растроганно, потому что с тех пор, как мы находились здесь, это было в первый раз, что сын признавал его правоту:
— Если хочешь, будем говорить о другом… ты прав, почему мы должны всегда говорить только о еде?.. Поговорим о чем-нибудь другом.
Но Микеле вдруг рассердился, подскочил как ужаленный и закричал:
— Хорошо! Но о чем же мы будем говорить? О том, что мы будем делать, когда придут англичане? Об изобилии? О торговых сделках? О вещах, украденных испольщиком? О чем мы будем говорить, а?
На это Филиппо не нашелся что ответить, потому что только на эти и подобные темы он и мог говорить, Микеле исчерпал все темы, и Филиппо не приходило ничего другого в голову. Микеле ушел. Как только Филиппо убедился в том, что сын его не видит, он сделал жест, который должен был означать: «Мой сын — оригинал, с этим приходится считаться». Беженцы постарались успокоить его.
— Твой сын, Филиппо, знает очень много… деньги, которые ты истратил на его учение, это хорошее капиталовложение это и важно, а остальное не в счет.
В тот же день Микеле сказал нам с раскаянием:
— Мой отец прав, я не уважаю его. Но я теряю голову и не владею собой, когда он начинает говорить о еде.