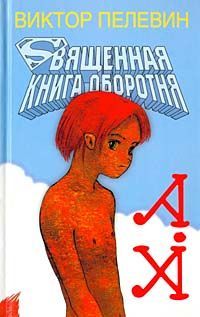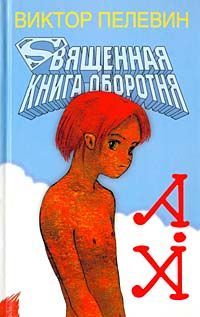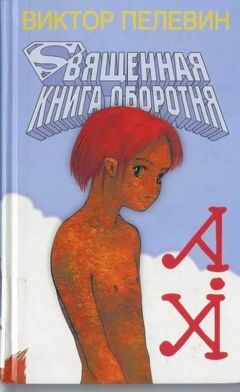Артур Соломонов - Театральная история
– Да, я там. В смысле… Сейчас открою.
Мобильный телефон обдал холодом ухо и руку. Александр понял: такого жара в его жизни еще не было. Он попробовал подняться. Не смог. Но открывать уже было не нужно: его мама стояла рядом.
– Ольга Викторовна, – обратился он к ней с кровати. Он часто игриво называл ее по имени-отчеству, но сейчас шутливость тона выглядела неуместной и жалкой. – Так у вас есть ключ от моей квартиры?
– Представляешь, я так долго стучалась и звонила, а дверь оказалась не заперта.
Она окинула взглядом комнату. Заметила следы быстрых женских сборов: открытая помада на полу, разлитая на комоде жидкость для линз и опрокинутая бутылочка с этой жидкостью – у зеркала. Из шкафа торчит прищемленное дверью оранжевое платье. Полузакрытые занавески – очевидно, что кто-то хотел их свести, но занялся срочно чем-то другим, более важным.
Она посмотрела в глаза сына – ей показалось, от болезни они потемнели. Чтобы не напугать его своим беспокойством, кивнула на разбросанные вещи Наташи и как можно беспечнее спросила:
– Ну что, мне нужно сообщать машинисту об оставленных подозрительных вещах?
– Машинист в курсе, – устало ответил Александр, но сумел улыбнуться.
Ольга Викторовна придвинула к кровати стул и села.
– Саша, неужели ты позвонил мне сам? Впервые почти за месяц. Балуешь меня. Гляди, привыкну к такой роскоши. Каждый месяц звонка буду ждать – размечталась, да? Слушай, а чем это у тебя пахнет? Как будто кто-то машину здесь заводил.
– Серой? – Александр, которому минуту назад удалось улыбнуться, сейчас осилил и смех.
– Я соскучилась. Почему ты так долго не звонил?
– Не обижайся, тут такая катавасия…
– Скорее, котомарсия, – сказала мама, кивнув на Марсика. И усмехнулась.
Игра словами! И такая похожая улыбка – высокомерная и в то же время теплая. Зовущая? Да, зовущая. Клодетта Степановна права, его тянет к б…дям. Едва он вспомнил о старухе, как она оказалась прямо у его левого уха и провизжала: «Ты ищешь образ матери в б…дях!» В другое ухо торжественно шепнула Татьяна Аллегровна: «Это мистэрия!» Сказав это, они скрылись в складках одеяла, чтобы никогда больше не явиться перед Александром. Они и так непозволительно долго вокруг него хороводили. А им есть пред кем являться: такими, как Александр, набиты многоквартирные дома от Парижа до Хабаровска.
– Извини, не могу не спросить, где Наташа?
– Ушла.
Ольга Викторовна пересела на край кровати – туда, где недавно гневалась Клодетта Степановна.
– Я не думала, что все так уж серьезно.
Глядя в бледное лицо сына, она подумала: «Наташа ушла, а я ему говорю: не думала, что серьезно… Глупо как…»
– Это не серьезно. Это кошмарно. Мама.
Александр по всем правилам приличия должен был бы сделать хорошую мину при плохой игре. Этого требовали не только приличия, но и сыновний долг: разве можно нервировать тех, кто нас произвел на свет, своими неудачами на этом свете? Тогда они закручинятся, потом обидятся, потом выдвинут обвинения, а потом огласят приговор: дураку – дурацкая жизнь. И снова закручинятся.
Он никогда не беспокоил родителей своими бедами. С одной стороны, не доверял им, с другой – не хотел чувствовать их жалости и боялся вышеозвученного приговора. Но сейчас он не чувствовал ни малейшего желания держаться в рамках приличий. Жар обострил правдивость, усыпил сыновний долг. «Хватить ей врать, что у меня все хорошо, – подумал Александр. – У меня все ужасно, и она в этом виновата». Он захотел бросить ей в лицо свое горе. Обвинить своим страданием. Подумал, что начать надо с того, чтобы взглянуть на мать с осуждением и гневом. И сделал это. Но Ольга Викторовна увидела, что Александр глядит на нее с тоской. Испугалась: поняла, что безнадежно пропустила момент, когда тоска еще не имела такой власти над ее сыном.
– Как у тебя в театре?
– Мама! – закричал Александр. – Дай мне хоть чаю горячего! Что ж ты, не видишь, как мне плохо!
– Саша, ты что? Я же тебе сделала чай – вот он стоит.
Александр увидел: чай стоит рядом. И почувствовал: он пахнет травой. Если бы он был здоров и полон сил, рассвирепел бы: ведь получалось, раз он ошибался насчет чая, значит, все его слова – нелепы. Но рассвирепеть не получилось. Напротив, он еще сильнее обмяк. Александру показалось, что мать заметила борьбу свирепости со слабостью, парадоксально закончившуюся полной победой слабости. Она улыбнулась краями губ. В ответ истерзанная Александрова душа издала стон через истерзанное горло. Мама снова улыбнулась, и тогда он понял уже абсолютно, что такое бессильная ярость. И решил выговориться до дна.
– Благодаря тебе и папе я любил лишь то, что не имеет перспективы. Только червивые отношения. А теперь ты приходишь и удивляешься, что все у меня… так.
Ольга Викторовна отвернулась.
– Ты! – крикнул Александр. – Ты в меня вложила преклонение перед талантом. Пока я разберусь с талантом, которого нет… С любовью, которую ты мне навязала… Пока разберусь, окажусь на два метра под землей. И не доведу даже до середины борьбу с твоими страшными дарами.
Он положил голову на подушку и сказал обреченно:
– Я до конца дней должен служить твоим заблуждениям.
Ольга Викторовна, как это нередко бывало в ее разговорах с сыном, почувствовала себя несправедливо обиженной. Желание защититься пересилило сострадание:
– Ты говоришь, как будто тебе кто-то роль написал. Прости, но я себя виноватой в твоих проблемах не чувствую. Потому что я их, прости, не понимаю. Хотя бы один раз скажи мне, что на самом деле происходит. Скажи, только без театра.
Александр изумился: мать без труда распознала фальшь. Ведь слова про «страшные дары» он не так давно написал в свой дневник, и они ему очень нравились. Писал их от сердца, а сказать от сердца не получилось. И еще он отметил: на мать не произвели никакого впечатления слова про «два метра под землей». Никакого впечатления! И он подумал: «Я самый плохой актер в мире… Премию "Актерский отстой" должны назвать моим именем. И так будет, непременно будет!»
Его почему-то развеселило слово «непременно», он стал повторять его вслух и посмеиваться. Ольга Викторовна видела, что он в полубреду, но не могла простить его упреков.
– Саша, ты меня позвал, чтобы говорить мне гадости?
– Позвал? Не помню, как тебя звал.
– Замечательно. Ты меня и днем-то не зовешь. А потому я и решила зайти к тебе ночью. Сама решила.
– Извини… Я что, болен?
– По телефону ты мне сказал, что болен. Ты не ошибся.
– Я хочу уйти из театра. Вообще уйти.
– Ты же знаешь, как я к этому отношусь.
– Еще как знаю: это позиция побежденного, – он игриво показал на свое тело, будто представил его публике. – Смотри, вот лежит неудачник. Вот эти ноги, руки – в них ничего особенного, и в жизни их хозяина ничего особенного. Тяжело смотреть на сына-лузера? Да? Надо, чтобы я сказал: все изумительно в моей изумительной жизни!
«А вот х…й тебе!» – воскликнул Александр, громко, но мысленно. Воспитание позволяло ему говорить самые оскорбительные слова в адрес близких людей, а вот ругаться матом он не мог. Грубо выругавшись про себя, он почувствовал облегчение и отвернулся к стене.
– Саша, ты чудовищно неправ насчет меня и папы. Ты пойми…
– Нет, это ты пойми! Ты пойми, нет, ты пойми! – вскрикнул Александр и захохотал, для усиления эффекта постукивая себя рукой по ляжкам, накрытым одеялом. Внезапно прекратил и простонал:
– Боже, как все нелепо…
– Ты сам за меня говоришь и на меня же злишься. И делаешь так, даже когда здоров. Если чувствуешь, что тебе нужно уйти из театра, – уходи. Но не думай об этом сейчас. А то еще сильнее заболеешь.
– Ха! – он повернулся к ней, и снова ее поразили темные глаза и сизые круги под ними. – А что же тогда ты меня все время спрашиваешь: как в театре, как в театре, как в театре…
– Я спросила один раз, и я же не знала…
Александр поднялся на кровати:
– Ты топчешься по моей боли! И не знаешь!
И снова все потонуло в оранжевом цвете, и показалось, что мать сделала шаг к двери, но передумала и снова села на стул. Кровать задрожала в ожидании музыки, но ее не воспоследовало. Все рухнуло в тишину – мгновенно. Сколько прошло минут или часов, определить он не мог. Может быть, сбылись обеты оранжевого, и время (на время) исчезло.
– Это проекция, – услышал он голос матери.
– Проекция?
– Спроси у папы, он лучше объяснит. Ты вообще мало с ним говоришь о психологии, а очень зря, – Ольга Викторовна говорила и прикладывала сыну мокрое полотенце к голове. Он почувствовал леденящее блаженство. Вяло потребовал:
– Расскажи ты. О проекции.
– Это когда ты ненавидишь в других людях именно те пороки, которыми обладаешь сам, – мать нежно прикладывала полотенце к его лбу.
«А я было расслабился. Все кончилось вынесением приговора. Я мудак, она прекрасна». Александр почувствовал, что жар одолел прохладу полотенца.