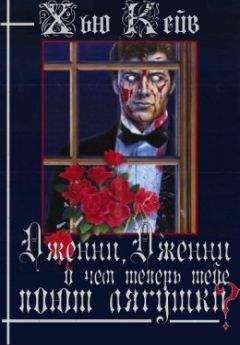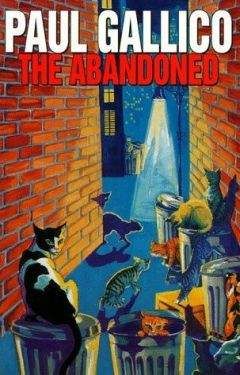Мишель Турнье - Пятница, или Тихоокеанский лимб
Сравнив первые последствия его наличия и его отсутствия, мы можем сказать, что же такое другой. Беда философских теорий в том, что они сводят его то к своеобразному объекту, то к другому субъекту (и даже сартровская концепция удовольствовалась в «Бытие и ничто» объединением обоих определений, сделав из другого объект под моим взглядом — с учетом того, что он в свою очередь смотрит на меня, преобразуя меня в объект). Но другой не есть ни объект в поле моего восприятия, ни субъект, меня воспринимающий, — это прежде всего структура поля восприятия, без которой поле это в целом не функционировало бы так, как оно это делает. Осуществлению этой структуры реальными персонажами, переменными субъектами, мною для вас и вами для меня, не препятствует тот факт, что вообще как условие организации оно предшествует тем термам, которые ее актуализируют в каждом организованном поле восприятия — вашем, моем. Итак, априорный Другой как абсолютная структура обосновывает относительность других как термов, осуществляющих структуру в каждом поле. Но какова эта структура? Это структура возможного. Испуганное лицо — это выражение пугающего возможного мира или чего-то пугающего в мире, чего я еще не вижу. Осознаем, что возможное не является здесь абстрактной категорией, обозначающей что-то несуществующее: выраженный возможный мир вполне существует, но он не существует (актуально) вне того, что его выражает. Перепуганное лицо не схоже с пугающей вещью, оно заключает ее в себе, оно ее сворачивает как нечто другое каким-то скручиванием, помещающим выражаемое в выражающее. Когда я в свою очередь и на свой счет постигаю реальность того, что выражает другой, мне остается только объяснить другого, развить и реализовать соответствующий возможный мир. Верно, что другой уже дает некоторую реальность свернутым им возможностям — как раз разговаривая. Другой, это существование свернутого возможного. Речевая деятельность, это реальность возможного как такового. «Я», это развитие, объяснение возможных, процесс их реализации в актуальное. О замеченной Альбертине Пруст говорит, что она объемлет или выражает пляж и волны прибоя: «Если она меня видела, чем я мог ей представляться? Из недр какой вселенной выделяла она меня?» Любовь, ревность будут попытками развить, развернуть этот возможный мир, называемый Альбертина. Короче, другой как структура, это выражение возможного мира, это выражаемое, постигнутое как еще не существующее вне того, кто его выражает. «Каждый из этих людей был возможным миром, достаточно связным, со своими ценностями,-со своими фокусами притяжения и отталкивания, своим центром тяжести. При всех их отличиях друг от друга возможные эти имели в качестве действительно общего крохотный образ острова — сколь общий и поверхностный! — вокруг которого они располагались и в уголке которого находились потерпевший кораблекрушение по имени Робинзон и его слуга-метис. Но, хоть он и был центром,у каждого образ этот был отмечен знаком преходящего, эфемерного, обреченный в короткий срок вернуться в ничто, из которого его извлекло случайное отклонение „Уайтберда“ от курса. И каждый из этих возможных миров наивно оповещал о своей реальности. Это и был другой: возможный, упорствующий, чтобы сойти за реального». Мы можем лучше понять последствия присутствия другого. Современная психология разработала богатую серию категорий, описывающих функционирование поля восприятия и перемены объекта в этом поле: форма — содержание, глубина — ширина, тема — потенциальность, профили — единство объекта, пограничье — центр, текст — контекст, тетическое — не тетическое, переходные состояния — субстантивные части и т.д. Но соответствующая философская проблема, может быть, неудачно поставлена — спрашивается, принадлежат ли эти категории к самому полю восприятия и ему имманентны (монизм), или же они отсылают к субъективным синтезам, осуществляемым над материей восприятия (дуализм)? Было бы ошибочно отвергать дуалистическую интерпретацию под тем предлогом, что восприятие не осуществляется посредством выносящего суждение интеллектуального синтеза; можно, очевидно, представить себе пассивные чувственные синтезы совершенно другого типа, осуществляемые над материей (Гуссерль в этом смысле никогда не отрекался от некого дуализма). Но мы все равно сомневаемся, что дуализм определен должным образом, пока его устанавливают между материей поля восприятия и дорефлексивным синтезом «я». Истинный дуализм совсем не в этом — он между последствиями «структуры Другого» в поле восприятия и последствиями его отсутствия (тем, чем было бы восприятие, если бы не было другого). Нужно понять, что другой не есть некоторая структура среди других в поле восприятия (в том смысле, в каком, например, можно было бы признать отличие его природы от объектов). Он есть структура, обусловливающая целое поля и функционирование этого целого, делая при этом возможным построение и применение предыдущих категорий. Возможным восприятие делаю не я, а другой как структура. Итак, те авторы, которые неправильно интерпретируют дуализм, не выходят и за рамки альтернативы, следуя которой другой — либо обособленный объект в поле, либо другой субъект поля. Определяя другого по Турнье как выражение возможного мира, мы, напротив, делаем из него априорный принцип организации любого поля восприятия на основе категорий, мы делаем из него структуру, которая дозволяет функционирование как «категоризацию» этого поля. Истинный дуализм появляется тогда с отсутствием другого: что происходит в этом случае с полем восприятия? Структурируется ли оно исходя из других категорий? Или напротив, открывается на весьма специфическую материю, заставляя нас проникать в своеобразную информальность? Вот авантюра Робинзона.
Тезис, Робинзон-гипотеза, обладает огромным преимуществом: прогрессирующее стирание структуры Другого представляют нам как вызванное обстановкой необитаемого острова. Конечно, структура эта продолжает жить и функционировать еще долго после того, как Робинзон не встречает более на острове актуальных термов или персонажей, чтобы ее осуществить. Но приходит момент, когда с нею покончено: «Маяки исчезли из моего поля зрения. Питаемый моей фантазией, свет их еще долго доходил до меня. Теперь с этим покончено, меня окружают тени». И когда Робинзон встретит Пятницу, то, как мы увидим, уловит он его отнюдь не как другого. И когда наконец причалит судно, Робинзон узнает, что он уже не может восстановить людей в их функции другого, поскольку сама структура, которую бы они наполнили, исчезла: «Вот чем был другой: возможное, которое упорствует, чтобы сойти за реальное. И все его образование вдалбливало когда-то Робинзону, что жестоко, эгоистично, аморально отказывать в этом требовании, но за эти годы одиночества он забыл об этом и теперь спрашивал себя, удастся ли ему когда-либо вернуть утерянную привычку». А ведь это последовательное, но необратимое растворение структуры, не является ли оно тем, чего достигает другими средствами извращенец на своем внутреннем «острове»? Говоря по-лакановски, «просрочка» другого приводит к тому, что другие не схватываемы более как другие, поскольку не достает структуры, которая могла бы дать им это место и эту функцию. Но не рушится ли при этом и весь наш воспринимаемый мир? На пользу чему-то другому?..
Вернемся же к последствиям присутствия другого, вытекающим из определения «другой — выражение возможного мира». Главное следствие — это разграничение моего сознания и его объекта. Это разграничение и в самом деле вытекает из структуры Другого. Населяющий мир возможностями, фоном, пограничьями, переносами, — вносящий возможность пугающего мира, когда я еще не испуган, или же, напротив, возможность успокаивающего мира, когда я и в самом деле миром,испуган, — охватывающий по-другому все тот же мир, который совсем иначе развернут передо мной, — образующий в мире столько волдырей, содержащих возможные миры, — вот каков другой (В концепции Турнье, очевидно, звучат отголоски Лейбница (монада как выражение мира), но также и Сартра. Развитая Сартром в «Бытие и Ничто» теория является первой крупной теорией другого, поскольку она выходит за рамки альтернативы: является ли другой объектом (пусть даже каким-то особым объектом в поле восприятия) или же это субъект (пусть даже другой субъект для другого поля восприятия)? Сартр выступает здесь как предшественник структурализма, поскольку он первым рассмотрел другого как собственно структуру или не сводимую к объекту и субъекту специфическую особенность. Но, определяя эту структуру через «взгляд», он вновь подпадал категориям объекта и субъекта, превращая другого в того, кто конституирует меня в качестве объекта, когда на меня смотрит, и отпускает, в свою очередь становясь объектом, когда посмотреть на него удается мне. Судя по всему, структура «Другой» предшествует взгляду, последний характеризует скорее тот момент, когда кто-то наполнил вдруг структуру; взгляд лишь осуществляет, актуализирует структуру, которая должна быть определена независимо). Отныне другой обязательно опрокидывает мое сознание в «я был», в прошлое, которое больше не совпадает с объектом. До того, как появился другой, имелся, например, успокоительный мир, от которого было не отличить мое сознание; явился другой, выражая возможность пугающего мира, которому не развернуться, не вынудив пройти мир предыдущий. Ну а я — я не что иное, как мои прошедшие объекты, мое я сделано лишь из прошлого мира, в точности того, пройти который заставил другой. Если другой — это мир возможный, то я — мир прошлый. И вся ошибка теорий познания состоит в постулировании со-временности субъекта и объекта, в то время как один из них образуется лишь уничтожением другого. «Субъект есть дисквалифицированный объект. Мой глаз — это труп света, цвета. Мой нос — это все, что осталось от запахов после того, как была засвидетельствована их ирреальность. Моя рука опровергает сжимаемую ею вещь. Отныне проблема познания рождается из анахронизма. Она включает в себя одновременность субъекта и объекта, таинственные отношения которых нуждаются в прояснении. Ибо субъект и объект не могут сосуществовать, поскольку они — одно и то же, сначала интерпретированное в реальном мире, затем выброшенное на свалку». Другой тем самым обеспечивает разграничение сознания и его объекта как разграничение временное. Первое следствие его присутствия касалось пространства и распределения категорий восприятия; но второе, быть может, более глубокое, касается времени и распределения его измерений, предыдущего и последующего, во времени. Какое же прошедшее может быть, когда другой более не функционирует?