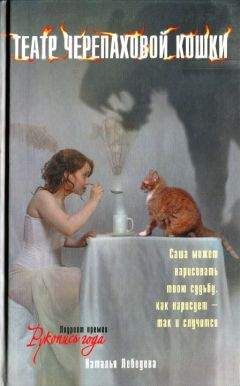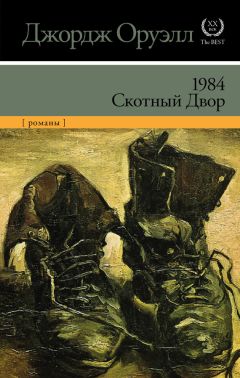Алексей Варламов - Лох
— Ви увндет мир — Грец, Италь, Франц. Я знаю, ви патриот, ви любит Россия, но Россия сейчас не любит ви. Потом, в будущем, когда Россия будет, как Германия, вам позовут и ви будет вернуть там. Но теперь ваш место здесь. Верите мне, Алекзандер, верите.
Тезкин ничего не ответил, подошел к окну и, поглядев на чистый и красивый город, пробормотал: «Ну услышь меня, откликнись. Пусть ты больше меня не любишь и то, что ты написала, было лишь минутной слабостью, и ты нарочно уехала туда, где тебе теперь хорошо, хоть я и знаю, что хорошо тебе быть не может. Дай мне знак, скажи, что с тобой, и я перестану тебя искать. Я, быть может, смогу о тебе забыть и успокоюсь, если ты этого хочешь. Но пока ты меня не отпустишь, я буду тебя ждать.».
Снова наступила весна, он чувствовал себя так же скверно, как осенью, когда ночевал на улицах. Сильно кашлял, его лихорадило, и Анна умолила его сходить к врачу. Визит оказался неутешительным. Аккуратный, коротко стриженный доктор, чем-то напомнивший Сане отца, долго рассматривал снимки, слушал его, а потом сказал, что легкие его запущены и ему надо срочно лечиться, пока процесс не принял необратимого характера. Испуганная девушка просила его все бросить и немедленно ехать в горный санаторий, но Тезкин вяло возражал:
— Анна, на что я тебе?
Она плакала, и Тезкин поддавался на уговоры, соглашался с тем, что она будет его сопровождать. А в России говорили о голоде и войне — и теперь никто уже не верил, что этот кошмар когда-нибудь кончится.
— Если ты вернешься туда, ты умрешь, — говорила Анна Тезкину. — Там нет лекарств, нет продуктов, там нет для тебя работы.
Тезкин вдруг вспомнил Машину, которая велела ему когда-то уезжать, и сказал:
— Хорошо, мы дождемся лета и поедем. И в это самое время позвонил Сане человек и на самом обыкновенном русском языке, от которого преподаватель и лектор отвык, спросил:
— Господин Тезкин?
— Да, — ответил он, и сердце у него екнуло, а голос незнакомца показался страшно холодным и чужим, куда более чужим, чем ломаная и резкая речь его учеников.
— Вы давали объявление в «Зюддойче Цайтунг»?
— Да.
— В таком случае я хотел бы с вами переговорить.
7
Они встретились в небольшом кафе возле вокзальной площади, и ощущение холода в тезкинском сердце и груди стало настолько невыносимым. что он плотнее запахнул куртку, с трудом скрывая дрожь.
— Где она?
— Она находится в частной клинике, — ответил его собеседник, не спуская с Тезкина задумчивых и спокойных глаз.
— Что с ней? — проговорил Саня хрипло, не узнавая собственного голоса.
— Что ж вы на меня так набросились? — усмехнулся мужчина. — Почему вы думаете, что я должен перед вами отчитываться? Ну хорошо, кажется, это называется депрессией. Полгода назад она пыталась покончить с собой, и полагаю, это была не последняя попытка.
— Я хочу ее видеть.
— Боюсь, что это невозможно.
Тезкин поглядел на него и вдруг подумал, что этот человек не отдаст ему Козетту никогда.
— Зачем вы меня тогда нашли?
— Видите ли, господин Тезкин, меня не вполне устраивает ситуация, когда то в одной, то в другой газете появляются объявления, что кто-то разыскивает мою жену, пусть даже бывшую.
Бывшую? — пробормотал философ с мучительной интонацией в голосе.
— Мы развелись полгода назад.
— Я хочу видеть ее немедленно.
— Слушайте. Тезкин, поскольку я сохраняю над своей бывшей супругой опеку, то увидите вы ее или нет, зависит только от меня — здешние законы на сей счет достаточно строги. А к тому же косвенной причиной ее нынешнего несчастного положения являетесь именно вы. Поэтому я прошу вас оставить ее в покое и никаких объявлений больше не давать. Вы напрасно тратитесь — газет в этой клинике не читают.
— Хотите, я заплачу вам?
— Заплатите? — рассмеялся тот. — Вы что же, много получаете? Вы ведь, кажется, преподаете русский язык или литературу, что-то в этом роде?
— Да.
Мужчина нахмурился и посмотрел на Тезкина задумчиво.
— Неуч, голь, — пробормотал он, — преподаватель одной из лучших мюнхенских гимназий. Представляю, чему вы их учите. Что же, мало вам того, что испохабили шестую часть света, сюда еще перебрались. А знаете что, — сказал он вдруг, — я сообщу вам адрес моей бывшей жены при одном условии: вы возьмете ее из этой клиники, оплатите пребывание там, коль скоро вам так не терпится, и тотчас же, слышите, тотчас же вернетесь в Россию.
— Боитесь? — сказал Саня презрительно. — Холуйская кровь взыграла? Живой напилась и куражится теперь?
— Вы глупы, господин Тезкин, и я очень сожалею, что в свое время приложил руку к вашему вызволению… Но довольно. Я хотел бы получить от вас какие-нибудь гарантии, что вы меня не обманете.
— Да не бойтесь вы, уедем мы, — проговорил Саня тихо и отвернулся.
8
Лечебница была расположена высоко в горах на границе с Швейцарией. Тезкин с Фолькером ехали туда несколько часов. Дорога поднималась в гору, изредка показывались веселые альпийские деревушки и придорожные гостиницы. Фолькер, опечаленный внезапным тезкинским отъездом, молчал. Он не мог понять, почему его русский друг не хочет остаться здесь хотя бы для лечения и почему он совсем не рад, что они едут к этой загадочной женщине. А Саню не отпускал озноб, и в голове у него было совсем пусто.
Он не чувствовал теперь никакого волнения и почти не думал о том, что увидит Козетту, покинет приютившую его страну, Фолькера, гимназию, пухленькую заплаканную Анечку и веселые разноцветные баварские улочки. Он смутно ощущал, что жизнь его добралась до последнего поворота, уже виден ее конец, отвратить который теперь ничто не сможет. Им сделан последний выбор. Но мысли эти не приносили Тезкину ни печали, ни радости, а ровную удовлетворенность, смешанную с легким сожалением.
— Не сердитесь на меня, Фолькер, — сказал он, повернувшись к водителю. — Я не могу здесь оставаться больше.
— Ностальгия? — спросил Фолькер. — Ви русские не могет жить без Россия. Я помню, так сказал меня хэрр Голдовски.
— Может быть, и ностальгия, — ответил Тезкин, — тоска, да только не по Родине. Мы, наверное, больше не увидимся, Фолькер. Я очень благодарен вам, вы и сами не знаете, сколько для меня сделали.
— Не увидимся? Ви думает умирать? — улыбнулся немец.
— Нет, Фолькер, я об этом не хочу думать, но если я умру, то обязательно попрошу, чтобы вам об этом сказали, и заранее приглашаю вас на свои похороны.
— Алекзандер, — сказал Фолькер прочувственно, — я давно хочу сказать вам одна вещь. Я знаю вам только несколько месяц, но мне окажется, что уже много лет. Но я вам совсем не понимаю. Почему ви не может, не хочет употреблять свой талант? Почему ви так равнодушен с собой? Я не понимаю это, Алекзандер. Ви только тридцать лет, и ви совсем не имейт воля к жизни. Я люблю вам, но так не можно жить.