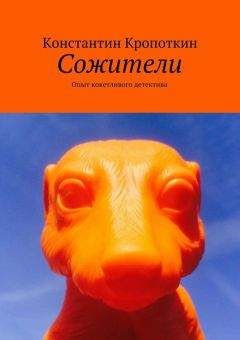Константин Кропоткин - …и просто богиня
И там тоже пела певица.
Другая.
На клоунессу она была не похожа, она ею была. Залихватски заломленная шляпа из черного фетра на черных жестких кудрях. Боа из трепещущих лиловых перьев вокруг шеи. Черные стрелки в углах прищуренных черных же глаз, придающие лицу выражение несколько хищное (и уж во всяком случае, отчетливо кошачье). Разбитые ботинки, незашнурованные, напоказ выставляющие свою неуместность с этим узким в талии, цветочного силуэта зеленым платьем, чуть блеклом из-за дорожной пыли.
А пела она у стены каменного дома, в ледяной его тени, отрезавшей большой кусок узкой улицы, в этот жаркий день щедро залитой золотом солнца. Она стояла в полутьме у микрофона, притоптывала бахилами — она пела, а ей подпевал музыкальный какой-то аппарат, тоже, как и она, хлебнувший пыли. Иногда она кивала ему, или, понажимав ногами на педали, меняла звук — впрочем, то могла быть всего лишь игра на зрителя, суета, служащая напоминанием о трудностях уличного артиста, который себе и жрец, и жнец: «подайте денежку». Чемоданчик впереди нее раззявил свою плетеную пасть: внутри были пластинки, медяки и, написанное на итальянском, предложение, класть медяки и брать пластинки.
Она была изящна. Ее фигура была из тех, которые жаль, если одеты они, как попало, без почтения к точным и тонким линиям груди, талии, бедер.
Она была молода. Или просто так загорела, что изъянов кожи не было видно — только цельность свою она предъявляла миру, а мир — обступивший ее на почтительном расстоянии, был многолик. Люди гуляли по старому городу, следовали туристическим условным рефлексам, рассматривали притиснутые друг к другу темные дома, — и замирали, удивленные неуместной для уличного жанра терпкой силой женского голоса.
Она была красива, что было видно и в клоунском наряде. А прекрасна была, — потому что пела. И мне не надо прятать в словах раздражение, или неприязнь, или насмешку, как в случае с пронзительной меццо-женщиной, описанной несколькими абзацами выше.
Она пела. У нее был хрипловатый голос, прокуренный словно — землистый, как (здесь должна быть метафора из локальных) — как тосканское вино, с особой его глубиной, уверенной правильностью, вольготностью вещества, существующего без запретов, без преград, на свободе, стесненного только обстоятельствами естественными, как солнце, влажность воздуха и температурные перепады.
Она была, наверное, не совсем в себе: странно щурилась на свет, и жесты ее были не совсем точны. Она пела и выстреливала свои взгляды вслед проходящим: услышали ли? поняли? кинули денежку?
Я кинул. Пластинку взял. Зачем с таким голосом, с внешностью такой стоять на улице, как будто нет сцен лучше и больше?
Мы ушли пить кофе возле городской стены, и, когда уже и с коржиками было покончено, увидели ее снова — она прошла мимо, впереди себя она толкала тачку, в которую было составлено ее музыкальное имущество — усилитель, электрическое пианино, гитара, мандолина, микрофон и проводов черный клубок. Она загребала слегка ногами — а как еще ходить, если ботинки разбиты и не завязаны шнурки? Она шла куда-то вниз, к желтым холмам, наверное в сторону парковки, к машине может быть. И мне не надо придумывать, что шла она в солнце — вечерело, и впереди полегоньку расплеталось солнечное полотно.
Пластинку ее заслушали до дыр. «Nefertiti in the kitchen». «Кухонная Нефертити».
Прекрасно и жаль. Жаль — и прекрасно.
«ЛЕНГИЗА»
Моя мама очень расстраивается, если я пишу о грустном, ей чудится грустное даже там, где прописывал я, например, отчаянную радость; как и все матери, она бывает тревожна без нужды, готова утешать, даже если записки свои я пишу, как сейчас, сидя на берегу итальянского горного озера, а не в Сибири, у окна с видом на трамвай, где она меня читает; не спрашивайте меня, почему я не могу изменить жизнь своей матери к лучшему — ответ будет длинным, многосоставным, а я хочу написать что-то оптимистичное безусловно. Например, о женщине, которая такая же маленькая, как и моя мать, и с упрямством невыразимым бурунит пространство и время.
«Ленгиза».
Хотел дать ей другое имя и даже посмотрел в Интернете, какие бывают татарские имена (ах, какие душистые бывают имена: «Айсылу» — красивая, как месяц, «Тансылу» — прекрасная, как утренняя заря, а еще «Ляйсан», «Алия», «Калима», «Миляуша»), но в уме я все равно называю ее «Ленгиза» и боюсь сбиться, а заодно сбить с толку и читателя — невоображаемого на этот раз, конкретного; мама, прочти, пусть тебе будет радостно: я сижу на берегу итальянского озера и тешусь иллюзией, что жизнь прекрасна и такой будет всегда, и будет плескаться у ног чистая вода, и будет небо казаться выгнутой в бесконечность синевой, и всегда будут эти нескончаемые «и», которые я люблю нанизывать, одно за другим, убеждая (кого?), что бытие текуче, оно безразрывно — и длится, счастливо тянется тихий синий свод.
Ленгиза.
Она терпеть меня не может, а я с удовольствием ее разглядываю.
— Ну, расскажи-расскажи! — требовал я от Ленгизы совсем недавно; мы сидели у художников, в мастерской, среди голых женщин и лошадей, пили шампанское и чай, ели рыночные пирожки с яблоками. — У меня есть две истории, я их все время рассказываю, всем уже надоел, мне нужна какая-нибудь новая. Расскажи, ну?! — мне было весело, а Ленгиза, по обыкновению не терпя дуэтов, отвечала невнятно; не видела она ничего смешного в том, что к принцессам вхожа и с принцами на короткой ноге.
Ленгиза, крошечная юркая татарка, снова была в Индии, опять возила русских по заповедным местам, где особы аристократических кровей сдают свои дворцы туристам, холят их, как могут, катают на лошадях, устраивают им оздоровительные процедуры, втюхивают, качая, должно быть, цветными тюрбанами, свои кремы, мази, притирки, а Ленгиза числит себя по этим делам большой специалисткой, и мне неведомо, как она к этому пришла — мы познакомились, когда она уже вовсю зарабатывала лечебными массажами, торговала пахучими мазями, колеся по стране, добираясь до заповедных шаманских краев и нигде не зная отпора.
Она терпеть меня не может — и потому в том числе, что меня веселит нынешнее дело ее жизни, я не могу принимать его всерьез, хоть и допускаю, что оно действительно также волшебно, как, например, индийское кино, к тому же наряды индусов — шальвары и кофточки с блестками — очень впору Ленгизе, сидят на ней так, словно в них и родилась востроглазая татарка и никогда не носила, например, халат поломойки.
А она носила, что вспоминать не любит. Иностранцев в Питере, у которых в начале 90-х мыла полы, она называет своими друзьями, что тоже правда, но вначале она поступила в домработницы, а потом уже стала дружить — иностранцы, немцы в особенности, легко ломают сословные барьеры, они их часто и не видят, чего о Ленгизе не скажешь.
Полов в чужих домах не мыла, дружила только — пусть так. Хоть меня и веселит эта стыдливость.
Ленгиза меня не любит, а я, не желая симметрии, напоминаю себе, что она мать-одиночка, в Питер прибыла из глухой деревни; у нее комната в коммуналке, эгоистичный несамостоятельный сын, у нее путаная профессиональная жизнь (завхоз? поломойка? торговка мазями? массажистка? кто еще? что дальше?) и условное образование — и попробуй-ка выжить с таким багажом в большом городе, а она не живет, а буквально скачет, в зависимости от обстоятельств, отыгрывая любимые сценарии (то «маленькая девочка», то «женщина-ведунья»), которые, в отличие от одеяний индусок, не очень ей впору.
— Я им столько людей привела, деньги на мне сделали, я им и сказала, давайте, стригите. — Ленгиза возила русских в Индию, там по магазинам с ними ходила, между делом вытребывая себе мелкие подарки от торговцев, которые правоту ее немедленно признавали, благодарили, как могли — то чаем, то отрезами ткани, то самодельными, жареными в масле, пирожками, или, вот, подравняли задаром ее жесткие, черные волосы, которые она обычно заплетает в косу.
— А что? — хихикнула, рассказывая, Ленгиза, — это же игра.
Она играет, пробует, ни от чего не отказывается, глаза-буравчики выпытывают, что и насколько. И я очень рад, что она, раз закинув удочку, не тиранит меня больше божественным происхождением своих индийских снадобий — и без меня есть много людей, которые могут ей поверить, и, может быть, они более правы.
Ленгиза восхитительно бодра, энергична. В путешествия берет свою подушку, ежеутренне по часу или два делает зарядку (перекатывается на спине, наклоняется, встает на голову — а ей под пятьдесят).
— А как я буду людей лечить? Кто мне поверит, если больная буду? — а руки (она мне однажды лицо в лечебных целях терла) жесткие, сильные, цепкие.
В гостях у художников, любуясь конями, никакой истории в мою коллекцию Ленгиза не преподнесла — и не хотела, да и не могла: то, что мне кажется невыразимо смешным, для нее наполнено иным смыслом.