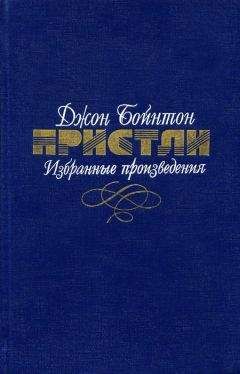Иван Цанкар - Словенская новелла XX века в переводах Майи Рыжовой
— Что ж, выпьем сами, верно, тетя? — сказал Борис и налил сначала ей, а когда она выпила, и себе. — В больницах не любят этого лекарства, мне пришлось принести его тайком. А нам оно напоминает Крас, верно, тетя? — продолжал весело болтать Борис.
— Я так испугалась, — сказала Энн, и всем могло показаться, что она говорит искренне — это у нее всегда прекрасно получалось, — я испугалась, что вам плохо. А сейчас вижу — вы хорошо выглядите, ну право же, хорошо, — проговорила она нараспев.
— В самом деле, — согласился Радо, испытывая мучительное замешательство, и добавил, чтобы хоть что-то сказать: — Отец меня совсем перепугал. А что говорят врачи?
Мать переглянулась с племянником, потом ответила:
— Да что они говорят? Обследуют, — начала она бодро, будто все действительно было в полном порядке. — Они еще не знают, но ничего плохого нет, так они сказали. Пробуду здесь день-другой, а то и целую неделю. А может, и целый месяц, верно, Борис?
— Может, и так, тетя, — подхватил племянник. — Сейчас все обследования делают по науке, в лабораториях. И это хорошо.
Женщины на койках отвернулись, будто отстраняясь от такого разговора: эти вечные вопросы «что говорят врачи?», когда и без того известно, как обстоят дела, и когда каждая из них про себя надеется, что она… и каждая судорожно цепляется за жалкие крохи оставшейся жизни. Тем более, что врач никогда и не скажет больному правду, если он даже совсем плох. К чему же тогда эти постоянные вопросы и улыбочки: «А что говорят врачи…»
— Ну ладно, Борис, рассказывай, — и, обернувшись к племяннику, мать остановила на нем взгляд, полностью отрешившись от сына и невестки, словно уже попрощалась с ними. Так оно и было, и произошло это, может быть, еще раньше, но поняла она все лишь сейчас, и ей стало казаться, будто Радо, которого она когда-то беспредельно любила, уходит от нее со своей злополучной Энн все дальше и дальше. Оба они удаляются от нее вместе со своими апельсинчиками, печеньицем, цветочками.
— Выпьем сначала еще по стаканчику, тетя. Нас ведь могут в любую минуту выпроводить, время посещений кончается.
Он налил тетке, которая и вправду взялась за стакан и опорожнила его, затем Борис налил себе, тоже выпил и спрятал бутылку в свой портфель, а тем временем начал рассказывать новую историю:
— Не знаю, может, вы уже слыхали про черногорцев…
И он невольно рассмеялся, словно приглашая посмеяться и своих слушательниц, особенно тетку.
И тетка с готовностью улыбнулась.
«Ведь у нее рак», — ужаснулась Энн; в ее представлении рак означал некое загнивание, распад тканей. Сразу же в сознании у нее возник образ паршивого, облезлого пса Фигаро… может быть, и у него рак. А мать улыбается, даже смеется, слушая байки племянника и не обращая внимания на сына — ей интереснее остроты этого шумного парня, его шуточки. И женщины снова поворачиваются к постели матери, приготовляясь слушать, словно все они собрались тут на веселое чаепитие, а парень угощает их тераном, «источающим дух родной красской землицы». Энн видела, что он спрятал в портфель две пустые бутылки, очевидно, он угощал вином и других и пил с ними, очевидно, они забыли о смерти, которая уже их караулит, наверняка караулит хотя бы кого-то из них.
— Но ведь это ужасно! — неожиданно застонала, почти закричала Энн, содрогаясь. — И эти пошлые шутки… Ужасно!
Она схватила за руку Радо и потянула его за собой:
— Пошли наконец. Ты же видишь, мы ей не нужны. Нет, не нужны… Я принесла ей и апельсины, и печенье, и цветы, а она едва взглянула на них, ни к чему не притронулась, «спасибо» сказала просто так, по привычке, из вежливости… А вино пьет… две бутылки опорожнили… ужасно!
Радо поглядывает на часы. В душе его что-то кричит, отчаянно кричит от мучительного сознания, будто Борис со своим тераном, «источающим дух родной красской землицы», навсегда вытеснил его из материнского сердца, закрыл ему все пути к матери. Он поглядывает на часы и решает, как быть. Он вечно будет решать и вечно — в пользу Энн. И вот он с отчаяньем в сердце уже промямлил, обращаясь к матери:
— Мы ведь вам не нужны… уже три часа… Вон идет санитарка. Но мы еще приедем, если вы пробудете здесь какое-то время. Только ведь врач, кажется, сказал, что скоро выпишет вас? Нам нужно кое-кого навестить, а потом домой, утром мне на службу…
Мать кивнула им, но руки не подала. Может быть, они и не захотели бы прощаться с ней за руку?
Когда они вышли, Энн закрыла на миг глаза. Снова ей примерещился облезлый, паршивый пес, хотя она до конца не сознавала, какая связь между ним и посещением свекрови.
— И это называется — она больна! — сказала Энн с осуждением, но кого она осуждает, было не совсем ясно. — Пьет вино, слушает пошлые шутки. — И грубо добавила, обратившись к Радо: Если ты когда-нибудь захочешь навестить мать… если, конечно, она вообще больна, можешь к ней съездить. Но я сюда больше не приеду и не смей меня заставлять!
Нет, Радо не станет ее заставлять… может быть, он и сам больше не поедет к матери в больницу. Ибо и он в глубине души разочарован, хотя и не отдает себе отчета, к чему относится его разочарование — к матери с ее племянником и тераном, «источающим дух родной красской землицы», или к «пошлым» шуткам, которые мать и окружающие ее женщины охотно слушают, стремясь забыть о своей беде и о самом страшном, что их ожидает.
— Удивительно, — сказала мать, когда стал прощаться и Борис, держа портфель под мышкой, — удивительно, что она не спросила про пса. Так певуче, по-штирийски произносит она это слово, красиво, приятно. — И мать горько усмехнулась, добавив с грустью: Она никогда не научится говорить иначе. И Радек счастлив, что может ее любить. Хорошо, что тут нет старика, наверняка бы расстроился… он ведь его очень любил…
— Отец сына или сын отца?
— Ох, какой ты противный, Борис!
Затем Борис начал философствовать:
— Каждый кого-нибудь любит, кого-нибудь или что-нибудь. В этом главная беда. Но иначе невозможно жить — все становится пустым и бессмысленным…
— Да, невозможно, — закивала головой мать. — В том-то и дело, — нужно любить кого-то или что-то… все равно… Но ты ко мне еще как-нибудь загляни, может быть, завтра я еще не умру. Верно, Борис?
— Надеюсь, тетя, — засмеялся племянник. — Я приду с новыми байками. И с тераном.
После этого они оба тихонько засмеялись и пожали друг другу руки.
Скорее всего матери уже нет в живых, вероятно, нет в живых и проклятого пса. Возможно, жив еще отец, «старик», скорее всего жив и Борис. Наверняка живет себе и поживает Энн, ибо Энн в чем-то бессмертна. Бессмертен и Радо. Иначе Энн не могла бы существовать.
Франц Бевк (1890–1970)
Нянька
Дело было весной. Как-то раз Гривариха собиралась на поденную работу.
— И я пойду с вами, — сказала Нежка.
— Нет.
— Не останусь дома одна.
Гривариха вздохнула:
— Не приставай. Ты ведь знаешь, что будешь мне только мешать.
Нежкой звали маленькую девочку с румянцем во всю щеку и живыми глазенками. Сколько ей было лет? Как раз столько, что можно было без труда сосчитать на пальцах одной руки. На девочке было платьице в крапинку, сшитое из старой материнской юбки. За плечами у нее болталась пара косичек, тоненьких, как крысиные хвостики.
Мать с радостью взяла бы ее с собой. Она знала, что Нежка боится оставаться одна в этом безлюдном, далеком от всякого другого жилья месте. Возвращаясь по вечерам, мать частенько заставала ее в слезах. Но хозяева бывали недовольны, если поденщицы брали с собой детей — боялись, что вместо работы они будут возиться с ними.
Нежка ничего не сказала, только сморщилась, собираясь заплакать.
— Если будешь умницей, не плаксой, я сделаю тебе куклу, — пообещала мать.
У девочки мигом прояснилось лицо.
— Правда? А когда?
— Вечером, когда вернусь. Будешь умницей?
— Да, — закивала Нежка.
О конечно, она будет умницей, а не плаксой. Чего бы она ни совершила ради куклы! Вообще-то кукла у нее уже была, но только сделанная из обыкновенного полена. Брат Нежки Петерч, что был двумя годами старше ее, кое-как вырезал ножом несуразную круглую голову с тупым носом, так что кукла была похожа на кошку. Нежка пеленала деревяшку в рваную материнскую кофту, нянчила ее и баюкала. Разумеется, девочке куда больше хотелось иметь тряпичную куклу, одетую в пестрое платьице.
Усевшись на колоду под раскидистой грушей, Нежка смотрела матери вслед. Всякий раз она тряслась от страха за мать, глядя, как та переходит через бревенчатый мостик, — боялась, как бы она не упала в воду. И облегченно вздыхала только тогда, когда мать была на другом берегу.
В этот день Нежке не хотелось играть. Она желала лишь одного — чтобы солнце поскорей закатилось за гору и наступил вечер. Но когда она поглядывала на небо, ей каждый раз казалось, будто солнце стоит неподвижно все на том же месте. Склон горы был залит ярким утренним светом. Леса и луга, редкие дальние домики и нивы, кусты ежевики и ломонос — все утопало в солнечном сиянии.