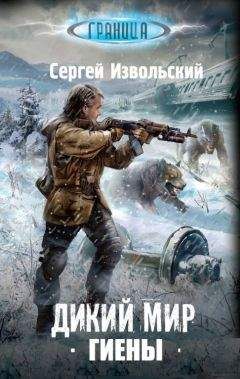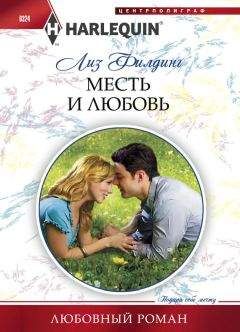Михаил Мамаев - Месть негодяя
— Не понял, Свет, что ты решила? Ты приедешь или нет?
— Мне надо подумать.
— А что думать — тут лету час.
Замолкает и чем-то там шуршит. Видимо, разворачивает шоколадный батончик. Она жить не может без этих батончиков. Я всю жизнь покупаю их для нее килограммами. Иногда, натыкаюсь дома на пакет с батончиками и вспоминаю, что сто лет ее не видел и пора пригласить. А то батончики испортятся…
— Так что, Свет? — напоминаю о себе.
— Хорошо, я тебя поняла, — отвечает, жуя. — Посмотрю, что можно сделать и напишу.
Терпение
Ночью проснулся от кашля. Грудь болит. Голова трещит. И никак больше не заснуть. Поставил градусник — 38,6. Лежу и думаю: «Блин, что же делать? Как не сорвать съемку?» Съемка тяжелая. Снова огромная массовка. Снова выступать с трибуны, убеждать…
Просыпаюсь в семь утра и сразу за градусник — 38,4. Звоню второму режиссеру.
— Можно что-то придумать? — спрашиваю. — Например, снять только мои крупные планы, и отпустить меня домой. Если хотя бы день не отлежусь — точно разболеюсь.
Через пять минут перезванивает:
— Лешечка, потерпи! Ничего сделать нельзя. Володя тоже заболевает. Все заболевают! Но мы должны добить завод!
Когда приезжаю на площадку, там дежурит Скорая. Две веселые девушки в белых халатах подбегают с фотоаппаратом.
— А мы вас ждем! Можно сфотографироваться?
— Да, малышки, но сначала засуньте мне меж лопаток стетоскоп и послушайте, что в домике…
Открывают нараспашку дверь своей Газели.
— Милости просим — залезайте, раздевайтесь!
В Газели дубак, как на улице.
— Родные, у меня вообще-то температура, ваша каталажка меня убьет…
— Что же делать?
Приглашаю в актерский вагончик. В тепле прослушивают легкие, меряют температуру.
— Сейчас у вас 37.9, и хрипов нет. Типичный бронхит. Пейте больше горячего и поменьше выходите на улицу…
Легко сказать! Ну, хоть хрипов нет, и то хорошо. Сейчас здесь все боятся этих дурацких хрипов. В газетах пишут о смертельных случаях. Называют легочной чумой. Вспоминают пандемию «испанки» в начале прошлого века. Начинается с обычной простуды и температуры. В течение четырех — пяти дней вирус поражает внутренние органы, в первую очередь легкие, и тогда уже трудно спасти. Надеюсь, журналисты преувеличивают, как всегда… Спасать всегда трудно, кстати, но было бы желание… А еще я знаю — некоторые сами не хотят чтобы их спасали. Таких, как ни бейся, не спасешь. Душа — это все-таки очень сложная мышца!
С самолета привозят Пашу Глазкова. Он как обычно бодр, жизнерадостен и слушать не хочет ни о каких свиных гриппах. Называет это все «поросячьими хитростями», чтобы отлынивать от работы.
— Ну, как же так, старик? — возмущается энергично, но сочувственно. — А я-то надеялся, что в выходные мы взорвем ночную жизнь этого города.
В вагончик заглядывает симпатичная незнакомая девушка. Под модным голубым пальтишком отчетливо просматривается круглый животик. Думаю, на месяце на седьмом.
— Вот, ты где, Паша! Я тебя потеряла…
Лицо Паши напрягается, но лишь на один короткий миг. В следующее мгновение Паша расплывается в лучезарной простодушной улыбке «Самого Счастливого Человека на Земле».
— Пусечка, извини, я хотел поскорее со всеми поздороваться, поэтому побежал вперед. Заходи, познакомься, это Леша, мой любимый партнер и друг… А это Галя, моя жена, о которой я тебе столько говорил… Приехала на денек, посмотреть, как я тут обустроился, как проходят съемки, да и город посмотреть. Завтра самолетом улетит назад, в Москву… Ну, что ты молчишь, Леш?
Смотрю на него вопросительно:
— А что…?
— Ну, я думал, ты поделишься с Галей, как я тут всем про нее рассказываю…
— Да, конечно! — спохватываюсь, стараясь ничем не выдать, насколько поражен. — Он мне о Вас все уши прожужжал, Галя! Только о Вас все время и говорит! И какая вы добрая, и какая умная, и какая красивая, и какая желанная, и какая трудолюбивая! И что стоит вас только увидеть, как сразу ясно — есть в наше время девушки, ради которых имеет смысл расстаться со свободой, создать домашний очаг, завести много-много детей, спокойно смотреть в завтрашний день, где для холостяка — мрачная ледяная пропасть, а для женатого человека — рай…
— Ладно, ты переодевайся, а мы с Галей сходим за чаем, — перебивает Глазков, всем видом давая понять, что мне пора заткнулся, и быстро уводит Галю из вагончика…
Если я перегнул, то мне простительно — я же не каждый день вру женам друзей! Может, сам я не женат до сих пор только потому, что ненавижу врать девушкам! Актерская игра и ложь — это не одно и то же! Можно быть отличным актером и совсем не уметь врать. А врать женам артистов трудней стократ — эта немногочисленная «порода» зрителей только и делает, что годами тренируется уличать во лжи — у них глаз наметанный…
Паша Глазков женат! Бог ты мой, Паша женат, кто бы мог подумать…?! И как же я не догадался? Ну, тихушник, Паша, ну, артист… Одно слово — Гений!
Проиграл…
Просыпаюсь среди ночи в холодном поту. Грудь разрывает сухой, причиняющий нестерпимую боль кашель. Ставлю градусник — 39,6. Черт! Придерживаясь за стены, шаркаю на кухню, заглатываю жаропонижающее, выпиваю целый чайник воды… Снова ложусь, укутываясь в три одеяла. Долго не могу заснуть, бьет озноб…
В двенадцать с трудом встаю, чтобы принять таблетку. Температура 39.8. Самочувствие не улучшается. Снова меряю температуру — 40. Еще одна таблетка не помогает. С каждым часом становится хуже. Тогда вызываю Скорую.
Врачи приезжают быстро. На лицах марлевые повязки.
— У вас на съемках кто-то умер? — спрашивают.
— Нет, — отвечаю и вдруг думаю: «А вдруг это я умер?». Но если бы это было так, они бы меня сейчас об этом не спрашивали и за спинами у них были крылышки. Все же на всякий случай присматриваюсь к их спинам.
Пожилой дядечка в марлевой повязке, прослушивает меня стетоскопом. Седые брови над повязкой тревожно шевелятся.
— В легких хрипы, — констатирует сдержанно. — Надо в больницу. Собирайтесь.
— Как хрипы? Вчера не было. Вы уверены?
— В больнице пройдете обследование. Антибиотики как переносите?
Медсестра вкалывает мне в вену лекарство, снимает электрокардиограмму, дает марлевую повязку.
В салоне Скорой резко пахнет бензином. Марлевая повязка немного отбивает запах. Но путешествие быстро изматывает. «Город небольшой, на такси в любую точку можно добраться за пятнадцать минут, а в больницу везут целую вечность, — думаю с досадой. — Как будто специально возят кругами. Или больницы здесь вынесены подальше от центра, как вредные промышленные предприятия?»
В больнице записывают в очередь на обследование. Проходит около часа, прежде чем попадаю в рентгеновский кабинет.
— Ну, и что мне с вами делать? — спрашивает врачиха, разглядывая снимки. — Двусторонняя пневмония. Здесь поражена нижняя доля, а здесь и средняя… Давайте градусник. Ну, вот, 39,8. Больница переполнена, положим в коридоре. Как только освободится место в палате, переведем…
— Очень не хочется в коридоре.
— Вам требуется постоянный уход и курс лечения антибиотиками.
— Я, пожалуй, пойду…
— Послушайте, это все-таки воспаление легких! Знаете, что сейчас происходит в городе?
Все понимаю, но не буду лежать в коридоре! Один раз позволишь положить себя в коридоре — потом в коридоре и вся жизнь пройдет. Пишу расписку: «С диагнозом ознакомлен, от госпитализации отказался». Врачиха качает головой, как будто я от жизни отказываюсь. Ручка в моей руке дрожит. Да что ж такое?! Стараюсь собраться, скрепя зубами, выскребаю подпись и думаю: «Хорошо еще, что у них здесь чернила синие, а не красные…»
Выхожу из кабинета, пытаюсь вспомнить, в какую сторону приемный покой. Там, у входа, должен ждать Вадим. Странное название — приемный покой! По-моему, это самое беспокойное место во всей вселенной — непрерывно приезжают кареты Скорой помощи, больные ворчат и жалуются, родственники галдят, врачи отдают распоряжения и ставят диагнозы, священники читают молитвы, цветочники продают живые цветы и искусственные венки, уборщицы непрерывно метут сор, в регистратуру очередь… И еще этот постоянный навязчивый звук, похожий на шелест огромных крыльев. Я, конечно, понимаю, у ангелов тоже работа — они ждут. Но могли бы дожидаться в морге, а не здесь, где мы боремся и рассчитываем так просто не сдаться! И кто придумал называть эти труповозки Каретами Скорой помощи? Не хватает еще запрячь их лошадками с бубенчиками, посадить на облучки мужичков в тулупчиках и в красных кушачках, пустить бразды пушистые взрывать… И, кстати, почему в детстве все называешь уменьшительными словами? Не лошади, а лошадки, не колеса, а колесики, не тулупы, а тулупчики, не облучки, а… Черт! Какие здесь бесконечные коридорчики! Где же, черт возьми, дверки? И куда подевались все человечки в белых халатиках? Только светящиеся фигурки на зеленом фоне лампочек бегут в направлении аварийного выхода и машут руками, мол, давай за нами, если хочешь спастись! Мне туда, к аварийному выходу — со мной как раз приключилась авария. Но я не побегу за фигурками. Уж, конечно, тут подвох! Дождись официальной подсказки и сделай наоборот! Только тогда, может быть, останешься жив. У нас здесь так, а как у других, не знаю. Разворачиваюсь на сто восемьдесят градусов и устремляюсь вперед. Господи, какие длинные коридоры. Как отсюда выбираются другие, черт возьми? Надо было отмечать путь крестами — маленькими красными крестиками на стенах и на полу. А может, выбираться надо по воздуху? Черт, как кружится потолок! И почему пол медленно наползает на стену? И окна в конце коридора блестят и выгибаются, как гигантские мыльные пузыри…?