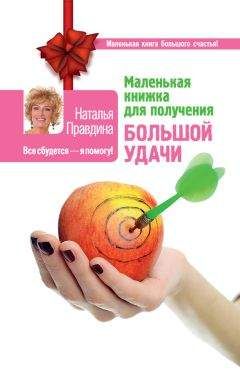Анатолий Ким - Остров Ионы
А внизу под ними еще текли последние сладкие минуты утреннего сна в мозгах толстых тюленей, моржей и сивучей, повылезавших в ночь на берег, и этим мелким мозгам, в которые еще не проник свет солнца нового дня, представлялись неописуемые радости от их животного состояния жизни, и некоторые моржи всхрюкивали глухо и, приподняв грубо сморщенную голову с закрытыми глазами, с торчащими вниз белыми клыками, поматывали ею из стороны в сторону, затем, так и не проснувшись, даже глаз не открыв, вновь укладывали эту голову на землю, утыкая в нее массивные клыки. Серебристые же каланы и пятнистые лахтаки смотрели свои сны более спокойно, уютно вытянувшись на камнях, некоторые из них запрокинулись на спины, брюхом вверх, и, сложив ласты на груди, блаженно улыбались. На нижнем этаже островной жизни все еще стояла тишина спальни, вот-вот готовая нарушиться утренними трубными звуками.
И в эту чужую незваную тишину я вступил, уйдя неимоверно далеко от теплого мира своего счастливого существования на земле, — ушел так далеко, что уже дороги назад, пожалуй, мне не отыскать. А где он затаился все-таки, теплый мир моего счастливого существования?
Я повернулся лицом к востоку солнца — Америка с ее долларовым раем? О нет, нет, там и без меня было по-американски хорошо… Стоят на Уолл-стрит высокие небоскребы, недоступные, как утесы, и на самых верхних этажах живут натуральные черти-полицейские с хвостами, самого грубого низкопробного астрала, чтобы таскать за шиворот всякую человеческую шушеру, беспомощно барахтающуюся в погоне за райскими долларами и никак не способную достичь вожделенного успеха. И мне тоже никогда не достичь бы там успеха. Ибо я, бывая в Америке, больше всего боялся высотных билдингов о сто и больше этажей, где на самой верхотуре шебуршились натуральные черти — они приводили меня в дикий ужас.
Тогда я обернулся назад. К западу от острова была Россия, где я жил и исполнил свою работу на русском языке. И там я стал СВОБОДЕН. Мне дали пенсию по старости, но потребовали, чтобы я дал расписку в том, что обязуюсь не заниматься больше творческой деятельностью. И я дал такую расписку. Она хранится в Пенсионном отделе Центрального муниципального округа Москвы. Так юридически была оформлена моя СВОБОДА.
Теперь я повернусь к югу. В той стороне где-то располагалась маленькая Корея, на земле которой, несомненно, был для меня теплый дом моего счастливого существования, но это случилось в другой раз, в более раннее мое появление на земле, и об этом я ничего не помню, только смутно догадываюсь. Какая-то близкая мне женщина была, которой я однажды подарил свой рисунок с изображением плывущего под водой большеглазого пятнистого тюленя… В «другой раз», стало быть, на корейской земле мне пришлось быть художником-анималистом.
Но взор мой улетает дальше, чуть правее, летит со стремительностью бесшумной молнии — и в юго-западном от острова Ионы направлении вдруг обретает утешительную теплоту. Это на юге Казахии, когда-то глубочайшей провинции Российской империи, в небольшом селении русских староверов меня взял под сень крыла своего мой добрый ангел Сергий, вживил меня в тело новорожденного корейского младенца и назвал Анатолием.
После Казахстана, промелькнувшего мгновенно, как утренний сон, я вижу, уже в юго-западном направлении, еще какие-то золотистые сполохи своих прежних существований, вспыхивавших друг за другом с такой быстротой, что уже ничего в подробностях увидеть и запомнить душевно было невозможно.
Одно лишь запомнилось явственно — то, как стоял перед могильными пещерами, в красных скалах, прямой и стройный Иисус Христос, что-то говорил в сторону разверстых гробовых пещер. И оттуда вылезли, униженно кланяясь и жутко гримасничая, два свирепого вида бомжа, грязные оборванцы с опухшими немытыми физиономиями, — продолжая кланяться и гримасничать, они боком, боком прошмыгнули мимо Спасителя и затем стремительно понеслись, обгоняя друг друга, по желтому ровному верху обрыва в сторону светившегося невдалеке большого озера. Это было так называемое тогда море Киннерефское. Там, над самым краем отвесного и высокого обрыва, шевелилось, как клубки живой шерстяной пряжи, черно-серое свиное стадо. Бомжи с разбега врбезались в свиней, раздался душераздирающий визг, — и черти, весьма похожие на людей, или два несчастных человека, обуреваемых чертями, что-то там делали с визжавшими животными, размахивая руками, а потом исчезли с глаз. И тогда бестолковое свиное стадо, вмиг прекратив визги, вдруг круто и опасно сплотилось, повернулось в сторону моря и стремительно рванулось к краю обрыва. Черные и серые свиньи с шумом ссыпались вниз в воду, но этого я уже не видел — я стоял в стороне метрах в ста от красных скал, где находились гробовые пещеры.
А дальше полет моего пристального астрального взгляда еще не раз менял свое направление и запечатлел несколько вспышек жизни, содержимое которых было для меня уже совсем невразумительным. Какая-то страна орлов, по-моему, даже не на нашей земле, и я дрался там за власть. Далее что-то еще полетное, но уже совсем свободно-полетное, без крыльев и приспособлений, и там я погиб, упав с огромной высоты на землю, потому что меня вдруг покинула левитационная сила вознесения. Потом запомнилось следующее — какая-то песчаная пустыня, чьи-то белые крупные кости, кости животного, — может быть, осла или верблюда, но мне было известно, что это мои косточки… И многое другое, веселое, жемчужное, сине-белых тонов — и более глухое, монохромное по колориту, безо всякого блеску.
И наконец, вдруг совершенно внезапно я оказался Ионой, погружающимся в воду кверху задом, потому что его только что сбросили корабельщики в бушующее море, раскачали и швырнули ногами вперед, и он перекувырнулся в воде, быстро пошел ко дну. С этого и начался данный роман. Но дело в том — и это мне запало в вечную память, — что я ведь не захотел быть Ионой, которого проглотит кит, нет, я пулей выскочил из тонущего Ионы, и мой свободный полет продолжился дальше.
Чего же хотелось мне во все времена, на всех этажах и уровнях Иллюзорного Мира Пустоты, самым нижним из которых является уровень звездно-галактической туманной Вселенной, дитяти загадочного Большого Взрыва? Я задал такой вопрос, значит, мне известен ответ. Ну и достаточно этого. Тут Слова не надо. Оно не мое. Оно было в начале, Оно было в Нем, и Он — первое и последнее Слово… А само жуткое, смешное, щекотливое, потливое, похотливое, неприличное, циничное, спекулятивное, релятивное, на испуг берущее, неэтичное, поэтичное, соблазнительное, блазнительное, безответное, безответственное, паранойяльное, парапустяковое, пустодырное, высоколобое, недостижимое, непостижимое понятие бесконечности пространства запирает мне путь к цели моего желания. И если отдалили меня от желанной цели на такое далекое расстояние и снова и снова выпускают в разные миры погулять, значит, так тому и быть — буду гулять, стараясь получить максимум удовольствия от этого.
Почему мне все так знакомо в древней Палестине? Ее палевые спокойные горы, по весне лессированные зеленоватыми мазками акварели… Когда в детстве я впервые прочел стихотворение «Скажи мне, ветка Палестины…», что-то сладкое, теплое встрепенулось в моем сердце, как большая птица, хотя я не имел никакого представления, что означает это слово — палестина… Впоследствии, когда я в глубине Рязанской Мещеры охотился в сосновых лесах за белыми грибами, то находил их на боровых райских полянках, покрытых серебристым мхом, которые на местном наречии назывались палестинками. Моим Господом на земле стал палестинский еврей из Назарета, в Которого с небес спустился и вошел Дух Божий в виде белого голубя, что было засвидетельствовано многими, принимавшими в тот день от Предтечи Иоанна крещенье на реке Иордан. А моим крестным отцом был еврейский потомок, родом из Сибири, Иннокентий Смоктуновский, который повел меня, корейского потомка, родом из Казахстана, креститься в православной церкви вместе со своим сыном Филиппом. И мой последний роман велено было мне написать о неудачном палестинском пророке Ионе, которого и кит не смог проглотить, и еврейский Бог не обошел — ввиду явной жестоковыйности и хитромыслия адепта — изрядной долей Своей Божественной Иронии, уложенной в подтекст всей дальнейшей Иониной судьбы.
Но вернемся к первому. Свободный взор мой, следящий за моими пестрыми инкарнациями в различных мирах, возвращается на Землю, пролетает дальше и несется над необозримыми океаническими просторами. Это поднебесная чаша Индийского океана, вогнутая, как синяя линза; затем промелькнула внизу желто-бурая, как львиная грива, летняя Африка в засухе. И в то время как астральные взоры мои скользили над плоским африканским бушем, словно телеобъективы, нацеленные с пролетающего искусственного спутника Земли, в кадр внимания попал некий голый темно-коричневый туземец, который ловко и бесстрашно дрался, словно мангуста, с серой ядовитой змеей, пожелав съесть ее. Другой туземец, уныло сморщив лобик, отдыхал неподалеку среди глин, сидя на своем выдающемся приплющенном заду; и вдруг первый ошибся, рука его пролетела мимо змеиной головы, и ядовитая змея, извернувшись, сумела цапнуть его за палец. Через несколько секунд незадачливый змеелов уже умирал, корчась на земле, лицо его побледнело и стало желтым, язык был прикушен, глаза закатились под лоб. А его товарищ даже подняться не успел с земли — приподняв локти и плечи, вытянув шею, он лишь испуганно смотрел на умирающего. И тот второй, еще не умирающий бушмен и был носителем нашей общей с ним души в африканском варианте. Я проводил своего укушенного ядовитым гадом соплеменника в мир иной горестным недоуменным взглядом.