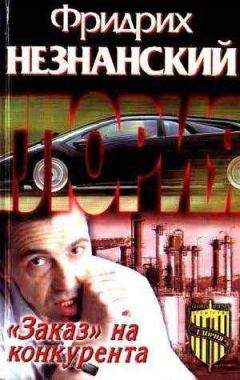Дафна дю Морье - Прощай, молодость
— Это будет мило…
— Ты все время сможешь делать что заблагорассудится. Мы могли бы ненадолго уехать в августе — скажем, отправиться в Фонтенбло и пожить там.
— Мы могли бы поехать на море? — спросила она.
— О нет, только не море. Я ненавижу море.
— А горы?
— Будь прокляты горы… Нет, дорогая, мы поедем куда-нибудь — сейчас это неважно.
— Я буду заботиться о тебе, Дик.
— Любимая, обо мне не нужно заботиться.
— Нет, нужно.
— Дорогая…
— О тебе нужно заботиться еще больше, чем о ком бы то ни было, и мне так давно этого хочется, Дик. Я собираюсь так много делать для тебя.
— Правда? — спросил я.
— Да, как если бы я была старше тебя и ты от меня зависел. Мне так этого хочется! Весь день — покупать тебе сосиски и все-все.
— Любимая…
— Выбегать из дому и покупать тебе швейцарский сыр. Штопать твои вещи — я совсем не умею штопать. Но это ничего, да?
— Ничего.
— Когда я об этом думаю, у меня даже начинает болеть… вот здесь, где сердце, и кажется, что я не могу вздохнуть, потому что это слишком — да, слишком.
— О, Хеста, возлюбленная моя.
— Дик, мне бы хотелось, чтобы у меня был ребенок.
— Ребенок? Боже мой! Это еще зачем?
— Не знаю. Иногда я думаю, что умру, если у меня не будет ребенка.
— Хеста, дорогая, ты сошла с ума! Не могу представить себе ничего, что могло бы до такой степени подрезать крылья. Ты только подумай, что в доме все время будет кричать младенец!
— Да.
— Нет, это же просто смешно: ты — и младенец. Что за безумная идея? Ничего смешнее я никогда не слышал. Это шутка, не так ли?
— Да… это шутка. — Она отвернулась.
— Я так и знал, что ты не всерьез. Послушай-ка, а когда ты собираешься съехать из пансиона? Скоро, очень скоро?
— Я постараюсь.
— На этой неделе?
— Нет.
— На следующей неделе?
— Может быть.
— Я не могу дождаться, когда ты будешь здесь, Хеста.
— Осталось немного.
— Я тебе до смерти надоем, дорогая.
— Почему?
— Я ни на минуту не оставлю тебя в покое.
— Я ничего не имею против.
— Ты же еще не уходишь, не правда ли?
— Который час?
— У нас есть почти целый час, любимая.
— Мы пойдем в «Купол»?
— Нет, Хеста.
— Мы же не можем здесь оставаться…
— Можем, дорогая. Иди сюда, любовь моя. Ты останешься. Я хочу, чтобы ты осталась.
Она подошла, легла рядом со мной и обвила руками, и мы были вместе.
И я сказал чуть позже:
— Это только наше, не так ли?
— Да, — ответила она.
— И больше никого, никогда?
— Нет, никогда.
— Мы всегда будем счастливы?
— Да, всегда.
В конце июня у Хесты закончился семестр, и она переехала ко мне, на улицу Шерш-Миди. В пансионе она сказала, что приехали родственники из Англии и сняли квартиру в Париже и они хотят, чтобы она жила вместе с ними. Своему туманному опекуну она написала, что снимает комнату на паях с одной девушкой, которая покинула пансион и тоже занимается музыкой. Она сказала, что на новом месте спокойнее и больше возможностей усовершенствовать свой французский. Никто даже не попытался выяснить правду. По-видимому, никого не волновало, что она делает в Париже. Сначала я боялся, что Хеста будет грустить без своего рояля, но она сказала, что все в порядке, а потом, спустя какое-то время, я забыл об этом. Она говорила, что это так приятно — покупать разные вещи, чтобы две наши комнаты выглядели более уютно. Она полюбила улицу Шерш-Миди. По утрам, когда я сидел в своей комнате, пытаясь писать, она прогуливалась по улице и возвращалась очень возбужденная, со старым стулом под мышкой, или с маленьким шкафчиком, или с какой-то диковинной картиной, извлеченной из недр одной из пыльных лавочек.
— Это мило, не правда ли? — спрашивала она, а я улыбался.
— Да, прелесть, — отвечал я и продолжал писать.
Я на какое-то время отложил книгу и начал писать пьесу. Написал первый акт. Я был им очень доволен: шутка ли — написать первый акт пьесы! Правда, я не был уверен насчет пьесы и поэтому не знал, сколько должен длиться первый акт. Чтение его занимало очень мало времени. Может быть, это оттого, что я так хорошо знаю текст и читаю бегом, по памяти. Как-то вечером я закончил этот акт, гордый и раскрасневшийся, и мы пошли это отмечать.
Мы пообедали, а затем проехались в такси по Булонскому лесу. Потом сидели в «Гранд каскад» и выпивали. Как хорошо было, откинувшись на спинку стула, смотреть на Хесту, такую красивую в синем платье, и думать о том, что мы любим друг друга и живем вместе в двух комнатах на Монпарнасе, и оба мы молоды и много знаем, и я только что закончил писать первый акт пьесы.
На следующий день я прочел его Хесте, и она сказала, что он чудесный. Правда, я не знал, можно ли положиться на ее мнение.
— Ты не должна так говорить просто потому, что любишь меня, — сказал я. — Ты должна сказать, что думаешь на самом деле, независимо от хорошего ко мне отношения. Я не имею ничего против.
— Честное слово, мне нравится, — настаивала она, — я бы не сказала, если бы это было не так. Правда, мне бросилась в глаза одна вещь: пьесу приятно слушать, но ты же знаешь, как люди относятся к действию в пьесе — а у тебя особенно ничего не происходит, не так ли?
— Не знаю, о чем ты говоришь, — возразил я. — У меня все время действие. Все отражено в диалоге, и разговор переходит с одного на другое.
— Да, — согласилась Хеста. — Но людям нравится видеть, что происходит, а не только чтобы им об этом рассказывали. А этот мужчина — мне кажется, его речи длинноваты. Никто в реальной жизни не мог бы говорить вот так без остановки, не запыхавшись. К тому же многое из того, что он говорит, не очень-то связано с сюжетом.
— Черт возьми, дорогая, все эти строчки — просто изящные сентенции, они должны придать блеск. Разве ты никогда не читала Уайльда?
— Читала.
— Ну и что же?
— Но, Дик, афоризмы Уайльда были очень короткими и к месту, а этот твой герой все продолжает и продолжает разглагольствовать.
— Он великий мыслитель. Таков его характер.
— Понятно.
— Да и в любом случае в пьесе нужен диалог. Это в ней главное. Я бы не мог написать пьесу, в которой было бы полно убийств, и выстрелов из пистолета, и прочей дряни.
— Да.
— Конечно, во втором акте будет больше действия; первый — это, скорее, пролог.
— Понятно.
— Тебе не нравится?
— Нет, нравится, действительно нравится. Я думаю, что ты ужасно умный.
— Нет, не думаешь, ты считаешь, что это никуда не годится.
— О, Дик, как ты можешь так говорить?
— Я знаю.
— Честное слово, это чудесно. Не знаю, как это у тебя так все выходит.
— О, ну…
— Обещай мне, Дик, ты не станешь думать, что мне не нравится?
— Но, судя по тому, что ты говорила…
— Я в восторге, просто в восторге. Ты мне веришь, не правда ли?
— Полагаю, что да.
— Подойди сюда и дай мне тебя поцеловать. У тебя такой сердитый вид, волосы взъерошены — совсем как мальчишка.
— Ты надо мной смеешься.
— Нет. Просто когда у тебя такой вид, я не могу не улыбнуться, я так тебя люблю!
— Наверное, я совсем бездарный.
— Нет, мой ангел, ты самый замечательный писатель, какой когда-либо существовал.
— Это наглая ложь.
— Не сердись, любимый. Это в самом деле прекрасная, прекрасная пьеса.
— Правда?
— Да.
Я подошел и, опустившись на пол, положил ей голову на колени. Быть с Хестой — это лучше, чем проклятая писанина. Она наклонилась и дотронулась до моей шеи губами.
— Продолжай, — попросил я.
— Ты должен идти и работать, Дик.
— Я больше не хочу работать.
В июле жара была невыносимой. Если зимой в этих комнатах тебя пронизывал холод, то теперь было нестерпимо жарко и душно. Казалось, тут совсем нет воздуха. Мы подтаскивали матрасы к окну и пытались спать на полу. Хеста смачивала водой простыню и вешала ее на окно. Мы пробовали по очереди обмахивать друг друга веером, но это было так смешно, что мы заходились от смеха, а потом становилось еще жарче, потому что Хеста была такая красивая, что я начинал к ней приставать. Дни были просто ужасные. Я пытался писать, обвязав голову мокрым полотенцем, но ручка выскальзывала из пальцев, скользких от пота. Работа не шла, было очень трудно шевелить мозгами. В здании напротив рабочие что-то делали: они воздвигли леса, а потом начали стучать часов с шести утра, и так целый день. У них были длинные листы железа, которые обрушивались друг на друга, и болты, которые нужно было вгонять. А еще один парень каждые несколько минут опорожнял тачку, полную камней, и весь этот шум смешивался со скрежетом лопаты. Это был сущий ад.
Хеста закрывала ставни от шума и жары, и у нас было темно. На ней был только легкий халатик. Завидев ее, рабочие свистели и что-то ей кричали. Жара мучила ее даже больше, чем меня, хотя ей нечего было делать. Она очень похудела и была бледная. Большую часть времени она обычно лежала на кровати и читала. Я полагал, что все это ей не на пользу. Жара была не на пользу и второму акту моей пьесы. Оторвавшись от книги, Хеста спрашивала: «Как дела? Ты не устал?» Я отвечал раздраженным тоном, потому что дела шли неважно и я едва ли написал и пять строчек. Да и зачем вообще спрашивать? Меня начинало удручать это бесплодное сидение за столом изо дня в день — мозги затуманены и похожи на ватное одеяло, тело неизвестно почему устало, мышцы дряблые без прогулок на свежем воздухе. Мне пришло в голову, что в прошлом году в это время я ехал верхом по горам Норвегии вместе с Джейком.