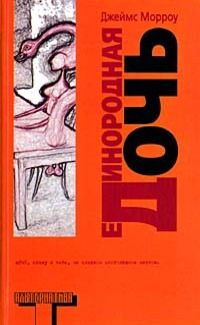Джеймс Морроу - Единородная дочь
— От первородного греха? Да разве я хоть словом обмолвился об этом? — Иисус оросил безволосую женщину. — Меня прежде всего интересовала этика. Читай Библию. — Он взмахнул своими легкими руками и смиренно сложил их на книге короля Иакова. — От первородного греха? Ты это серьезно?
— Твоя смерть искупила Адамов грех!
— Да что ты, в самом деле, — фыркнул Иисус. — Это же язычество, Джули: Аттис, Дионис, Осирис — божество-жертва, чьи страдания искупают грехи своих последователей. Да в мое время в каждом городе было свое божество. А Павел откуда родом?
— Из Тарсуса.
— А, я был там однажды. — Иисус снова принялся листать Евангелие. — Если не ошибаюсь, местное божество у них называлось Баал-Тарс. — Он приложил к груди раскрытую Библию, как компресс. — Господи Всевышний, так вот кем я стал для них — очередное примиряющее божество.
— Мне очень жаль, что ты узнал об этом от меня. — Джули напоила лысую женщину.
— Так значит, неевреи взяли все в свои руки? И вот почему в книге Иоанна речь идет не о Царстве, а о жизни вечной? Выходит, христианство стало религией, проповедующей бессмертие?
— «Примите Иисуса как своего Спасителя, — процитировала Джули, — и вы воскреснете и будете взяты на Небеса».
— На Небеса? Да нет же, «да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя как на земле, так и на небе», помнишь? А мои притчи? Все эти донельзя земные метафоры: Царство Божье есть закваска, горчичное семя, сокровище, зарытое в поле.
— Бесценная жемчужина, — добавила женщина, лежащая на камне.
— Верно. Тут ни слова о Небесах. — Руки-крылья Иисуса порхали, только ветерок свистел в дырах. — Это же утопия. Ну при чем здесь вечность? — Руки беспомощно упали. — А, я, кажется, понял, это они так объяснили то, что я не вернулся, да? Они перенесли воссоединение в некий потусторонний мир.
— По-видимому. — Джули сняла с лысой грешницы табличку.
— Какая чушь.
— Раз уж об этом зашла речь, — снова заговорила грешница, — может, вы проясните один спорный момент? Правда ли, что тело Ваше превращается в хлеб насущный, а кровь — в вино?
— Чего-чего? — опешил Иисус.
— Речь идет о таинстве евхаристии, — пояснила Джули, — согласно верованию, хлеб — тело Господа, а вино — кровь. — Ее голос дрогнул. Говорить ему или нет? — И тогда… тогда…
— И тогда?
— И тогда мы вас едим, — закончила лысая узница.
— Что?!
— Едим вас.
— Какой ужас!
— Да нет же, в этом сокрыт возвышенный смысл, — поспешила добавить лысая. — Через это таинство мы как бы соединяемся с Вами, причащаемся Святых тайн и приобщаемся к Жизни Вечной. Сходите как-нибудь на литургию. Посмотрите.
— Я должен над этим подумать, — загрустил Сын Божий. — Следующий!
Как же Джули любила эти тихие обеденные часы! Они с братом запирали пещеру и, оставив позади вереницу измученных грешников, поднимались на утес. Оттуда открывался вид на самую крупную сталеплавильню.
Они много говорили о развитии научной мысли.
— Расскажи мне об эволюции, — бывало, просил Иисус, — об углеводородных кольцах, черных дырах, принципе неопределенности Гейзенберга.
Его любознательность была безграничной. Рассказы Джули о бесконечной Вселенной, простиравшейся далеко за пределы видения пророков, о сказочных галактических узорах, неистовых квазипульсарах и схлопывающихся звездах, поглощающих свет, о том, как все это разлеталось в бесконечности, получив толчок во время Большого Взрыва, захватывали Иисуса не меньше, чем двусмысленность притчи о добром самаритянине и бесплодной смоковнице.
— Безусловно, эти модели будут пересматриваться, — заметила Джули, прочитав мини-лекцию о гравитации, — по мере поступления новой информации на основе таких фактов, как мое путешествие сюда и реальность Ада. Но в этом вся прелесть науки, она самосовершенствуется, корректирует самое себя, приветствует все новое.
— Если Эйнштейн прав, то Космос — это бесконечная резиновая плащаница. — Иисус с восторгом взмахнул краем своей видавшей виды накидки. — Крупные космические тела вызывают в пролетающих мимо объектах естественное разрежение.
Джули открыла корзинку с продуктами и вручила брату сандвич с цыпленком.
— Эйнштейн говорил, что, когда наука работает на высоких оборотах, можно услышать мысли Бога.
— Когда-нибудь этот башковитый еврей появится у нас.
— Бог?
— Эйнштейн. — Иисус вытаскивал из сандвича ломтики огурца и швырял их вниз с утеса. — Как бы я хотел с ним встретиться.
— С Богом?
— С Богом.
С Богом. Итак, тема затронута, гнойник вскрыт, генеалогическое древо пошатнулось.
— Что я могу сказать, — пожал плечами Иисус, — как ни крути, нашего прародителя понять трудно. Может, Эйнштейн и слышал мысли Бога, но у меня что-то не получается.
Всколыхнулись старые обиды, поднялась волна негодования, расплескалось через край одиночество покинутого ребенка.
— Если б меня назначили во Вселенной за главную, я бы первым делом арестовала свою мать за преступную халатность по отношению к своему ребенку.
— Ну, это уж слишком, Джули.
— Тебе легко говорить, о тебе Бог заботился. У тебя и золото было, и ладан, и мирра. А у меня? Подушки-вякалки и резиновые какашки.
— Но если речь идет о боге физики, о непознаваемом первичном импульсе, мы едва ли вправе судить его. — Иисус положил в рот шестой, последний, кусочек сандвича. — Что, если Бог и хотел бы вмешаться, да только такое вмешательство разорвало бы временное пространство и разрушило бы физическую Вселенную? Вот он вместо этого и посылает нас на Землю.
— Я думала об этом еще в колледже. — Джули принялась за дольку дыни. — Но все равно не могу смириться. Как бы далеко ни была моя мать, она не должна допускать существование этого мира.
— Ад — владения Вайверна, а не Бога.
— Пусть разорвет временное пространство! Пусть! — Джули захлебнулась собственным криком. — Что угодно, лишь бы положить конец этим бесконечным страданиям.
— Этот вопрос рассматривается, — спокойно ответил Иисус.
— А? — Вопрос рассматривается — столько эсхатологии в двух словах. — Что?
— Я говорю…
— Непохоже, чтобы этой сталеплавильне там, внизу, что-то угрожало.
Руки-птицы затрепетали.
— Эта вода, которую мы раздаем… Помнишь свадьбу в Кане Галилейской, когда вода превратилась в вино?
Джули указала на юношу, оттаскивавшего тяжело груженную тачку от печи.
— Ты хочешь сказать, что на самом деле мы их поливаем вином?
— Нет, обезболивающим. Это мой собственный рецепт. Судя по тому, что ты рассказала мне о химии, я думаю, это производное опиума, что-то похожее на морфин.
— Морфин? Так мы раздаем им морфин?
Сын Божий откусил жесткую верхушку банана и выплюнул ее.
— Это вещество воздействует на центральную нервную систему в течение нескольких недель, повергая узников в сладкое забытье, на этот раз в истинную смерть, но уже без воскресения в Аду. В момент окончательной потери сознания узник как бы бросается в огненное море и испаряется.
— А Вайверн думает, что это просто вода?
Иисус кивнул.
— Он потешается, глядя, как мы впустую тратим время, говорит, что мы накладываем повязки на трупы после вскрытия.
— Теперь понятно, почему они уходят отсюда такими счастливыми. Но ты почему сразу не сказал мне об этом?
— А когда ты думала, что это просто вода, ты разве сомневалась, что поступаешь правильно?
— Шутишь? «Давай махнем в Ад, там нас слегка поджарят, но зато дармовой стаканчик воды гарантирован!» Ну конечно, я сомневалась.
— И все же приходила, день за днем.
— Приходила, — фыркнула Джули.
— Где же здравый смысл?
— Они страдали.
— Правильно.
— Им хотелось пить.
— Именно.
— Они были брошены на произвол судьбы.
Борода Иисуса дрогнула в улыбке.
— Равви Гиллель не сказал бы лучше. — Он нагнулся к ней, крепко и нежно помассировал Джули спину. — Я еще сделаю из тебя иудейку, дочь Бога, — прошептал он, легко коснувшись губами ее щеки.
Джули Кац не могла бы с уверенностью сказать, что пятнадцать лет в аду, а именно столько лет она под носом у Сатаны раздавала проклятым морфин, были лучшими годами ее жизни. Но они были преисполнены блаженной простоты и ритуальной целесообразности, которые, как она верила, впоследствии станут ее самыми светлыми воспоминаниями. Она буквально физически ощущала, как с каждым днем стареет ее плоть. На руках и ногах проступили вены, волосы подернулись сединой, словно она чудом осталась в живых после казни на электрическом стуле. Размягчились десны, шатались зубы, кровь стала более густой, кости — более хрупкими.
Часто, протягивая обреченному ковш с морфином, Джули представляла, что тем самым она пробивает квантовый барьер, получая доступ в тот мир, который покинула. Она тосковала по странной привязанности Бикса. Теперь она поняла: он вовсе не был предателем, это ее собственное упрямство обрекло «Помоги вам Бог» на провал. И Феба, милая, исстрадавшаяся Феба. Ах, мама, пусть у нее все будет хорошо. Пусть она сохраняет трезвость. И пошли ей, мама, «Оскара» за лучший фильм на тему жизненной эротики.