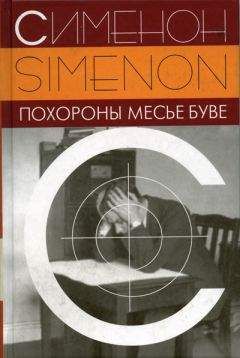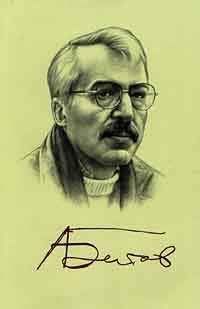Василина Орлова - Пустыня
…Ира живёт в тяжелейших условиях. Быт не устроен совершенно, нет никого, кто мог бы ей помочь.
Как человек с руками и ногами не может выбраться из той патовой ситуации, которую сам себе свил? Смешно, но не так уж.
Приехала в столицу учиться, закончив в родном Баку хорошую школу, где преподавали старые девицы, все сплошь бывшие институтки — немки, еврейки, польки — поступила в историко-архивный. Вышла замуж за студента, но неудачно. Сынок дипломата был направлен заботливой мамашей заграницу, с условием: избавиться от безродной жены, так как её никто во Францию ценой всевозможных ухищрений забрасывать не собирался. Любимый муж поплакал и выбрал заграницу.
Второе замужество повергло Иру в ещё более грустные обстоятельства. Осталась одна с сыном, в большой семье, полной племянников, племянниц, дядь, теть, шуринов и невесток, где заправляет визгливая, взбалмошная баба, свекровь, и всякая собака без исключения настроена против Иры.
Когда паренька в очередной раз в отсутствие Иры простудили, посадив рисовать к открытому в зиму окну, она отправила его к матери в Баку.
С тех пор всё перебивается с работы на работу, пытается устроить судьбу, то сходится, то расходится с немолодым уже и капризным, как барышня, иностранцем, ссорится с ним и мирится по интернету триста раз на дню. С момента, как муж ушёл, прошло девять лет. За десятилетие у неё не нашлось даже времени с ним развестись.
Сына она не могла забрать — в ту же комнату в коммуналке? И он оставался на попечении двух стареющих бабок, которые, будучи русскими, всё не могли — тоже годами — оформить себе в Баку российское гражданство.
Всякий, кто сдуру влезал в это и начинал предлагать Ире варианты, как можно было бы «разрулить» весь бред, напрашивался на увлекательную игру «Замечательно, но невозможно, так как».
— Тебе надо с ним развестись хотя бы…
— Да, но сперва нам нужно пойти к нотариусу, и тогда меня уж точно выселят из этой большой комнаты в маленькую…
— Но маленькую ты потом хотя бы сможешь продать!
— И куда я с этими деньгами? Их же ни на что другое не хватит.
— Ты могла бы снимать квартиру.
— И что?
— Перевезти сюда сына…
— А бабки? Останутся одни, в своём Баку?
— Ну, надо перевезти и их…
— Куда? В однокомнатную квартиру?
— Почему в однокомнатную… Можно снять и двухкомнатную.
— На это не хватит денег.
— Можно в Подмосковье…
— А ты хоть знаешь, насколько плохие школы в маленьких городишках в Подмосковье?
Примерно с такого момента непрошенный доброжелатель начинал злиться, что вмешался. И предпринимал попытку ответного наезда:
— А в Баку что, хорошие школы?
— В Баку хорошие.
— Ну тогда, я не знаю, устрой хоть свою жизнь. Найди себе мужика… А сын закончит школу там, приедет в Москву поступать в институт…
— Я хочу видеть своего сына. — следовал ответ. — Это такая рана! Я не хочу, чтобы сын при живой матери рос сиротой… И нет тут такого мужчины, который бы хотел о ком-либо заботиться.
То, что сын уже всё равно растёт сиротой, как-то не бралось в расчёт. И резюмировалось широким обобщением:
— В этой стране все делается, извиняюсь, через одно место.
И вмешавшийся чувствовал свою ответственность и страшную вину за страну, за мужчин, за чиновников русского посольства в Баку, свекровь, мужа-сектанта и весь белый свет до горизонта включительно. Некоторые женщины умеют всё сконструировать таким образом, чтобы темнота была универсальна и покрывала и землю, и небеса.
И, кажется, как ни ужасно, я из них…
Первое время желала пуститься в разнос. Враздрызг, врасплюй, чуть не по рукам пойти, трава не гори. Даже закурила и ещё смеялась: «Другая бы запила на моём месте, а я только сигаретками балуюсь». Ничего, мол, пустяки какие. Кокетничала с мужчинами и наслаждалась, в глазах появился блеск лихорадочно больной. Мало-помалу опомнилась. Запретила себе табак и всё другое.
Пришла. В себя? Стала чаще прикасаться к молитвеннику — нет, уже не тому, что подарил Дмитрий в пору тяжелейшего моего депрессивного состояния, к другому, ещё раньше его преподнес друг студенческих лет, с которым ничто не связывало, Андрей — к счастью, никакие любови, только обоюдное спокойствие, возникающее при встречах, Андрей, послушник Сретенского монастыря. Бумага в молитвеннике белее и толще, да и мыслей о муже он таких горестных не вызывает: по нему не читали мы вслух сообща молитвы.
Спокойно и сурово я стану ждать. Чего? Да нет, ты ошибаешься, не твоего возвращения, нет. Ждать, пока по капле не вытечет из сердца вся любовь и не уйдет в песок пустыни, где в добровольном отшельничестве, сосредоточенном уединении, сокрушенном раскаянии я пребываю до века.
Ждать, сомкнув челюсти и сцепив пальцы.
Но если тебе придет фантазия измениться, если пройдет год или два, или даже три в сомнениях и скитаниях и ты вернешься ко мне, понурясь, или с независимо и гордо поднятой головой, как ни в чём не бывало, я все-таки приму тебя. Потому что ты стал мне родным, словно сын. Я пишу, глаза сухие. Перестала плакать. Вдруг. Отрезало.
Приму, я думаю так сейчас. Может быть, завтра закружит в водовороте, но сколько раз я порывалась бежать к тебе, сквозь дождь, сквозь толпу, по метро, по улицам, по учреждениям, сколько раз бывало так, что я весь день только и шла, что к тебе, только и стремилась, что встретить тебя снова, и утром уходила только затем, чтобы идти, идти к тебе, бежать, лететь.
А сейчас понимаю: даже божественно возвышенные существа, воплощенные в телах людей, теряли любимых учеников, не то что мы, простые смертные. И уже никуда не спешу. Тлен, шорох, морок и мрак. Чушь и бред.
Очистившись от наносного, от наслоений, постигаю тщетность любых усилий. Можно сидеть за компьютером, можно нет, можно молиться или оставаться в толще быта, книжку читать или перевернуть корешком вверх. Писать этюд маслом — я научилась писать маслом, открылось, как дар. Изначально присутствовало и вот проявилось. Я получаю истинное удовольствие от того, что молю кофе, или вздор мелю, или молчу, встречаюсь с людьми или нет — а ведь я почти разучилась с тобой встречаться с людьми. Я начала бояться их, ну не смешно ли.
Думаю, и тебе так, без меня, лучше. Жаль, конечно, тех благородных, королевских дней, в которых жила рядом с тобой, ты смотрел на меня, глаза и волосы твои сияли бриллиантовым блеском. Тот блеск я увидела потом в подаренном тобой кольце. А ещё раньше — в Третьяковской галерее, забыла имя автора полотна, там Иисус в Гефсиманском саду лежал, словно поверженный ниц чуждой силой, придавленный скорбью и божественным отчаянием всепонимания. Лица не было видно, но кажется, я даже записала в дневнике, что уже видела такие волосы, и сперва не могла припомнить, на чьё чело они ниспадали? Еле сообразила: на твоё.
Ещё я помню, что в тот же день (как раз был ноябрь) говорила по телефону в заключительный раз с моим старым редактором, подарившим чёрное янтарное кольцо. Есть люди, остающиеся много позади, уходящие в прошлое по мере того, как ты врезаешься в будущее — да что там, я и сама для многих один из островов прошлого, слишком со многими расставалась, в разные стороны расходились пути, змеясь и разнообразясь.
Больше не хочется славы, признания, поразить, удивить, произвести впечатление — я наконец переросла те свои желания или они тоже откололись, как при выходе в плотные слои атмосферы отваливаются и тут же сгорают отныне ненужные части космического корабля.
Честное слово, даже не знаю, что должно бы сейчас произойти такого, что бы могло вывести из состояния вновь обретенного равновесия.
Прямо чувствую себя каменным изваянием. Колонной. Есть в Риме такие колонны, я видела их всё теми же глазами, которыми смотрю и теперь, а кажется, что было в прошлой жизни — их пытались свалить, когда рушили языческие храмы, но накинутые верёвки впились во мраморные тела и оставили незаживающие раны, с такой силой их сокрушали. Но колонны стоят. Когда-нибудь рухнут и они, конечно, вот только — сами. От усилия теплого ветерка.
И значит — вечность, спокойствие, неуязвимость.
Почувствовала себя вечной. Сколько боёв разыгрывались на полях, бывших моими владениями! Я давно потеряла счет смертям, устала считать трупы, не прогоняю ворон и воров, мелких падальщиков из рода куниц и белок, а также человеческого отребья. Столько мечей и мессершмитов превратилось в ржавую труху в моей земле, что было бы странно лить слезы по одной неудавшейся судьбе, пусть эта судьба — моя.
Ничем не выше и не краше всех других судеб, и, в конечном итоге, её тоже поджидает своё завершение, не знаю когда — может быть, завтра, может быть, через век. И главное, не смешно ли привязываться к человеку, зная, что не только ты погибнешь (равно бы!), но и он, самое главное — он тоже распадётся на сочленения и ткани. Мы всего лишь смертные, любимый! Какие могут быть между нами счеты? Какие обиды? Откуда желания?