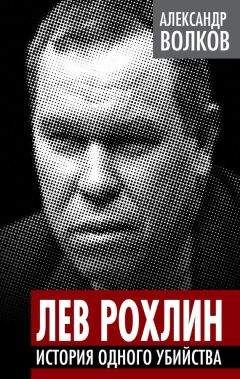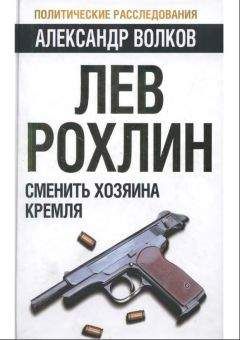Бернардо Ачага - Сын аккордеониста
Убанбе наконец поднялся и заправил белую рубашку в штаны. Сигару он держал в уголке губ. «Откуда ты все это знаешь, Адела? Ты мне так и не рассказала». Адела ответила не ему, а мне: «Я узнала это благодаря Беатрис». Убанбе уже стоял на пороге кухонной двери. «Ну, если ты так много всего знаешь, расскажи ему, в каком виде мы через два дня нашли Лубиса». – «В каком?» – спросил я. «Всего в крови. Лицо, грудь, все. Стоял, согнувшись, на берегу реки и отмывал кровь. Ты этого не знал?» Я сделал отрицательный жест. «Я считал тебя посметливее» – презрительно бросил он мне.
Мы с Аделой остались в кухне одни. «Кто его избил? Мой отец?» – спросил я. «Анхель просто обезумел из-за этой истории. И нечему тут удивляться Все вокруг показывали на него пальцем. И он подумал, что во всем виноват Лубис, потому что он говорил с Кармен. И случилось то, что случилось. У Лубиса все лицо распухло. А знаешь, кто ухаживал за ним, пока он не поправился? Кармен. Кармен была очень расстроена. И вот она попросила Беатрис, чтобы та позволила ей ухаживать за мальчиком. Мы все часто наведывались туда, стояли у дверей дома. Дон Ипполит тоже. И Лубис выздоровел раньше, чем можно было ожидать».
«Нужно было заявить на моего отца! – крикнул я. – Моя мать должна была заявить на него!» Теперь я ненавидел их обоих, и отца, и мать. Адела сделала паузу, прежде чем ответить: «Именно это хотел сделать врач, но Беатрис не позволила ему. Беатрис – христианка, из истинных верующих. Как и твоя мать. Они умеют прощать». – «Но избили Лубиса, а не его мать». Моя ненависть уже добралась и до Беатрис. «Лубису стыдно. Он не хочет вспоминать о побоях. Ты же знаешь, он никому не позволяет помыкать собой». – «Сегодня он бы не осмелился избить его», – сказал я. «Нет, конечно нет. Сегодня все уважают Лубиса. Ты же видел Убанбе. Он в два раза его выше, а вон как струсил».
Мне хотелось обнять Лубиса. Но возможно, он этого не допустил бы. Ведь он ушел рассерженный. «Я только об одном жалею, Давид, – сказала Адела. – Что мои сыновья будут такими, как Убанбе и все Другие. Они ничуть не похожи на Лубиса». Я направился к дверям. «Запиши ужин на мой счет», – сказал я – «Сегодня нам довелось вспоминать старые печальные истории. А следовало бы радоваться. Ведь праздник не за горами». – «Да, завтра предпраздничный день», – сказал я. «Ты плохо поступил, Давид. Не принес аккордеон. Принес бы его, мы бы танцевали и пели, а не злились». – «В следующий раз так и сделаем», – ответил я, помахав ей на прощание рукой.
Когда я вышел на улицу, южный ветер дул с такой силой, что в его вихре кружились не только сухие листья и бабочки, которые в тот вечер решили полетать, но даже и птицы. Я брел в Ируайн, съежившись, с трудом преодолевая короткий путь.
XVII
У меня перед глазами фотография, сделанная в день открытия памятника. Она была снята не на главной площади Обабы, не на спортивном поле, а на смотровой площадке гостиницы «Аляска». На ней запечатлено более двадцати человек, и как раз посредине, элегантно одетый, красуется тот, кого чествовали в этот день: бывший боксер Ускудун, человек, которого в Америке называли Паолино, принимая за итальянца. Рядом с ним, слева и справа, стоят Берлино, полковник Дегрела, его дочь, Анхель и парень боксерского вида, который, по всей видимости, является не кем иным, как Тони Гарсиа; у Анхеля в руках аккордеон. Позади этой первой группы, образуя как бы два крыла, улыбаются в объектив еще человек пятнадцать, все столь же элегантные, как и сам Ускудун. Среди них: известный мадридский бармен, гражданские губернаторы баскских провинций, национальный уполномоченный по спорту, несколько местных предпринимателей и с десяток журналистов. В углу стоят Мартин, Грегорио, Себастьян, Убанбе и Женевьева. Трое первых – в черных пиджаках официантов; Женевьева – в поварской шапочке; Убанбе – в рубашке, без пиджака, хмурый, со слегка припухшим правым глазом.
Нас с Терезой на фотографии нет. Терезы – потому что, как мне рассказал Себастьян, она все время праздника провела в своей комнате; меня – потому что я спрятался в Ируайне. Как и планировалось. Как я и пообещал Хуану и Лубису.
Я просидел в убежище тридцать часов. Когда Лубис поднял крышку, он застал меня со шляпой от Хотсона на голове «Что это ты здесь делаешь в таком виде, Давид?» – сказал он мне с улыбкой. Похоже, его недавний гнев был забыт. «Я думал, ты не знаешь об этом тайнике», – сказал я ему. «Как это мне не знать, если здесь сидел мой отец!» Он протянул мне руку, чтобы помочь подняться по лесенке. «Ты очень хорошо притворяешься», – сказал я. «Ну а что еще остается делать». – «Хуан уверял меня, что никто о нем не знает, и велел держать это в тайне». Лубис засмеялся: «Вот видишь, я не единственный, кому приходится соблюдать тайну».
Окно в комнате было закрыто, занавески задернуты, но даже при этом свет меня беспокоил. Лубис уселся на кровати, а я принялся делать упражнения, ходить от стены к стене, словно меряя комнату. «У тебя была масса гостей, Давид». – «Знаю, – ответил я. – Ну и натерпелся же я страху. Больше всего из-за Берлино. Думаю, он с моим отцом стояли как раз здесь, рядом со шкафом. Знаешь, что он сказал Анхелю? «У твоего сына очень неплохо получается убегать. Вспомни, когда мы хотели подарить лошадь дочери полковника, он тогда тоже убежал». Мы оба засмеялись. «Они не смогли получить удовольствие от праздника и теперь очень злятся. Им устроили бойкот. И листовки разбрасывали. Смотри».
Он вытащил из кармана листовку. Я подошел к окну и прочитал: «Бойкот фашизму. Бойкот Ускудуну и всем остальным фашистам. Gora Euskadi Askatuta – Да здравствует Свободная Баскония». Я впервые столкнулся с таким языком. «А кто еще приходил, Лубис?» – спросил я, приоткрывая окно. Я увидел, что лес вдали стал красноватым, словно он внезапно поменял цвет. «Я знаю лишь то, что мне рассказала Адела. Что вчера приходили Мартин и Грегорио. Потом Берлино и твой отец. А сегодня, очень рано утром, Тереза. Думаю, она тоже сердита». – «Меня это не удивляет. Придется написать ей в По».
«Не пугайся, я тебе сейчас еще что-то скажу, Давид». Лубис стал очень серьезным. «Еще приезжали жандармы. На двух «лендроверах». Я не сразу понял, о чем он говорит. «За мной?» – спросил я наконец. Он кивнул. «Они приезжали два часа назад. Я был в павильоне с лошадьми, и они окружили меня. «Вот он, лейтенант», – сказал один из них. «Вы Давид?» – спросил меня лейтенант. «А ты не знаешь, где он?» – сказал он, когда я ответил, что я не Давид. Я объяснил ему, что ты, по-видимому, на празднике, что вы все пошли на банкет. И тогда они ушли». Я молчал. Это была полная нелепица. «Да не пугайся ты так». – «Но я ведь ничего не сделал. Почему они за мной приезжали?» – «Ты должен был играть на аккордеоне и не играл. Но они не могут посадить тебя за это в тюрьму».
Я настежь распахнул окно. Кругом царило спокойствие. В воздухе, как всегда, когда наступала осень, чувствовалась услада. «Хуан сказал, чтобы вы позвонили дону Ипполиту и как можно скорее явились в казарму». – «Ты разговаривал с дядей?» – «Нет, ему звонила твоя мать». Сердце сильно билось у меня в груди, ладони вспотели. «Поторопись. Твоя мать и священник уже, должно быть, ждут тебя». – «Но как я туда доберусь?» Казарма жандармов располагалась около станции. В тот момент это расстояние казалось мне непреодолимым препятствием. «Я привез тебе новый «гуцци». Он стоит возле дома». Лубис взял у меня листовку. «Не вздумай ехать туда с этим, – добавил он с улыбкой. – Не волнуйся, Давид. Думаю, сегодня вечером мы сможем с тобой вместе выпить кофе в ресторане на площади». – «Не знаю, удастся ли мне сохранять спокойствие», – сказал я. Мы спустились по лестнице и вышли на улицу.
«Не люблю доносов», – сказал лейтенант. Он был очень молод, крохотные очки придавали ему интеллигентный вид. «Уже почти тридцать лет, как закончилась война, и некоторые полицейские процедуры, на мой взгляд, сейчас совсем не к месту, – продолжил он. – Я стараюсь придерживаться христианских заповедей». Его произношение не оставляло никаких сомнений относительно его кастильского происхождения. «Я рад слышать это от вас, – сказал ему дон Ипполит, приходской священник. – Кроме того, в данном случае донос не имеет никаких оснований. Утверждать, что этот юноша ответствен за сегодняшние инциденты, – полная чушь. Ужасная глупость». Слово взяла моя мать: «Я знаю, что он должен был играть на аккордеоне. Ну и что? Это был никакой не бойкот, просто ему не нравится быть аккордеонистом. И виноват во всем его отец. Он заставлял его играть еще с детства, и, конечно, теперь мальчику исполнилось семнадцать лет, и он начинает бунтовать».
На столе перед лейтенантом лежала какая-то бумага. Прежде чем вновь заговорить, он бросил на нее взгляд. «Как бы то ни было, есть один пункт, который я хотел бы прояснить, – сказал он. Мы все смотрели на него. – Похоже, Давид был замешан в деле с порнографическими журналами, и его за это исключили из колледжа». Я заметил, что рядом с бумагой лежала листовка вроде той, что мне показывал Лубис. Священник рассмеялся. Он даже захлопал в ладоши, а потом воскликнул: «Вот этого только и не хватало!» И далее на таком же правильном испанском, как у лейтенанта, сначала он изложил то, что произошло с тем самым журналом, а затем перешел к перечислению моих многочисленных достоинств. «Скажу вам со всей определенностью, лейтенант. Давид просто образцовый юноша», – заключил он.