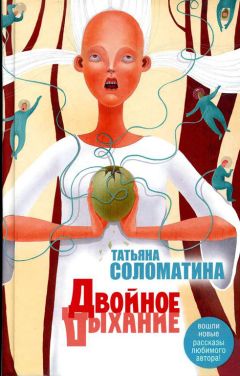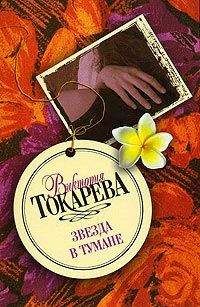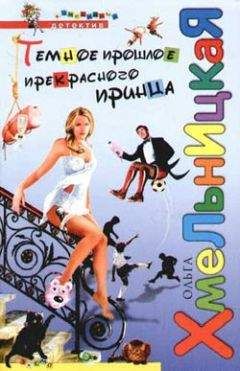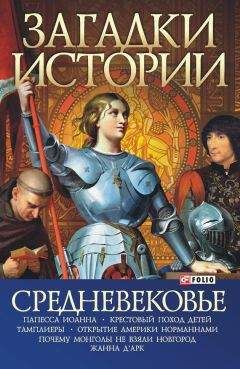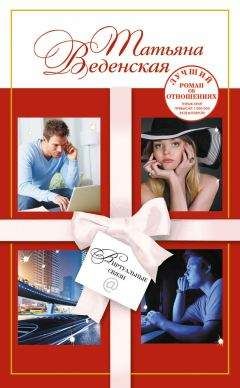Татьяна Соломатина - Двойное дыхание (сборник)
Пришлось бы постараться. Заняться фитнесом, более или менее прилично одеться и выучить несколько фраз абсолютно незнакомого языка, избегая воробьиного акцента. С зарплатой в пять долларов в месяц мне это, конечно, вряд ли удалось. А посему пришлось бы потратить ещё лет пять, изучая Конфуция (в подлиннике, разумеется), медитируя и…
А если бы она в это время разучивала шаманские танцы племени зулусов, вождём которого был её папочка?!
Шанс оставался бы, даже родись она в Якутии в семье почётного алкаша-оленевода. Он оставался, если бы мы встретились. Но… Боюсь, традиции её народа, привитые властной рукой близких родственников, и моя склонность к эстетствующему материализму не дали бы ему развиться.
Мне страшно подумать, что было бы, родись я пингвином на берегах Антарктиды, а она экземпляром редкого вида ночной бабочки на Мадагаскаре… Даже тогда у нас оставался шанс встретиться. Это было бы прелестно – наивно-туповатое любопытство пингвина и изящно-скоротечное восприятие бабочки с ярко выраженным суицидальным синдромом.
Да-а… Бог очень постарался, приготавливая нас друг для друга.
Надо отдать Ему должное: Он не стал усложнять нам и себе жизнь, запуская в работу один из вышеупомянутых алгоритмов, вероятность реализации которых сродни неуместной шутке по характеру и чуду по возможности воплощения. Бог не сноб – ему не свойствен циничный сарказм. А что касается чуда, то даже дети знают: безупречная и терпеливая подготовка способна произвести на свет что угодно. Что же говорить о Боге. Когда Он планировал чудо нашей встречи, то делал это скрупулёзно и бесстрастно, за что Ему превеликое спасибо.
Он так и сказал мне тогда: «Заслужил ты счастье земной любви или нет, мне неведомо. Потому как незачем мне ведать подобное. Знаю лишь, в этот раз время твоё придёт, и придёт время той, чьё время придёт для тебя. А посему решаю Я не родиться вам ни пингвином, ни китайцем, ни дочерью потомственного оленевода, ни бабочкой. А родиться вам там, где Я и когда Я. Но сидеть тебе на душной печи страстей человеческих, и лежать ей (как звать не скажу, и не проси) на дне реки прозрачной в омуте страха и пороков. Но когда время придёт и жизнь ещё пребудет в вас, да будет благо вам».
Вот так и сказал.
И родился я в нужное время в Москве, людьми и делами их славной, а не пышностью гордой слова «столица». И, как вы понимаете, родившись, напрочь забыл тот разговор с Творцом всего и всея сущего. И родился я в смраде страстей житейских, в ауре вечного конфликта отцов и детей, с жаждой пить, есть, знать и размножаться. На что с переменным успехом и благословлял то себя, то неплохо натренированное своё тело. И есть у меня подозрение, что пингвины, китайцы, бабочки и дочери почётных оленеводов занимались в это время приблизительно тем же, каждый на свой лад.
И всё же спасибо Тебе, Господи, что не наделил меня манерами пингвина, а Её – скоротечной жизнью бабочки…»
Женька оторвался от фотографии.
– Здесь всё так болезненно напоминает о нём. У меня вообще паскудное чувство, будто я занимаю не только чужое место, но и чужую спальню. Тут же всё – его. Даже эта фотография. Я его пижаму из ящика не могу вынуть и отдать в «общепароходский» круговорот. Бритвенный прибор не могу выкинуть. Ну кому он нужен, его бритвенный прибор? Ужас. Самое страшное в смерти – это собраться с духом и выкинуть… вынести… я не знаю, раздать, что ли?.. У меня ведь такое уже было, когда родители погибли. Я металась по квартире, пила, курила и выла. То папину рубашку понюхаю, то на мамину помаду наткнусь на полу. И не могу поднять, представляешь? Не могу. Закинь я в стиральную машину отцовскую одёжку или подними эту помаду, и мир рухнет. Исчезнет. Превратится в ничто. В пустоту. Так два дня и провыла, пока Вадим не пришёл, пинков не надавал, в душе не омыл, снотворными не напичкал и спать не уложил. И пока я в отключке была, всё убрал, вынес, вымыл. А я даже какой-то засохший салат из холодильника не могла в мусоропровод отправить. Это же был их салат, понимаешь? Салат, который помнил их живыми… Как будто, выкинув салат, ты убираешь ненужного уже свидетеля того, что они были.
– Света, все эти категории мы присваиваем материальным вещам сами.
– Да знаю я, знаю. Только отчего же так тяжело?.. Ладно. Хорош страдать. Вечером у вас с бабами пострадаю. А сейчас о работе. Я Ситниковой позвонила, сообщила, что у нас тут плодоразрушающая была. Она даже не сильно истериковала, против обыкновения. Сказала только, кроме рапорта, к главному врачу сходить ножками и устно его в известность поставить, пока слухи не донеслись или родня Вересовой не поднялась в галоп. Ситникова сейчас собственной тени боится. Пенсия не за горами, а на должность претендентов со стороны сам знаешь сколько. Ей и так уже пеняют, мол, на заведованиях у неё сплошные «внутренние резервы», мол, негоже ставить на заведование каких-то собственноручно взращенных безродных «малолеток», то есть нас с тобой, когда детишек «именитых старцев» пруд пруди. Сходишь?
Светлана Анатольевна не очень любила походы к новому главврачу. К Алексею Гавриловичу они уже все привыкли и знали все его закидоны, а также владели тактикой пережидания или форсирования оных. А как обращаться с «новой метлой», большинство сотрудников пока ещё не ведали. Тонкостями коммуникативных таинств Евгений Иванович Иванов владел куда лучше Светланы Анатольевны Нечипоренко, хотя последняя была и старше его почти на десять лет. Женщины вообще более склонны эмоционально реагировать на обычные рабочие ситуации, что бы там ни пели в миру воинствующие феминистки, мечтающие о повальном оскоплении следовых остатков истины женской и мужской сути.
– Пойду, куда я денусь. – Женька допил кофе. – Только тебе придётся составить мне компанию, как и. о. заместителя главного врача по акушерству и гинекологии Ситниковой. Чтобы по букве. А то он может меня и отправить восвояси, не выслушав. Или не приняв всего лишь скромного заведующего. Только пообещай мне, что ты будешь, по возможности, молчать, глубокомысленно надувать щёки и односложно, бесстрастно отвечать лишь на непосредственно обращённые к тебе вопросы. Акцентирую. «Бесстрастно», Света, – это значит «без страсти». Как бы он ни повышал голос, ты будешь оставаться официально вежливой и максимально корректной, но и без подобострастия, если он проявит благосклонность к нам, «сирым», договорились?
– Я очень постараюсь.
– Вот и славно. Пойдём, моя боевая подруга.
Они спустились на лифте в подвал. Дружно закурили по сигарете и молча отправились переходом, давным-давно известным до мельчайших неожиданных закоулков, подъёмов и спусков, луж и внезапных звуков.
Чуть позади «точки старта» осталась каморка бессменного завхоза Лукьяныча – мастера на все руки, нетипично образованного для такой должности, учитывая, что эпоха буддистов в котельных и поэтов в дворницких давно миновала. Но с мастеровым сухощавым подтянутым стариком Лукьянычем всё обстояло иначе. В прошлом он был, выражаясь благородно, разведчиком. По-русски говоря – гэбистом с приличными звёздами на погонах.
Неспокойный характер не позволил ему наслаждаться благами заслуженной пенсии на даче в Венках, и он с утра до ночи носился по родильному дому, подкручивая, прибивая, переставляя и пригоняя. Надо сказать, у него отлично получалось. Он мог отремонтировать при помощи такой-то матери не только протёкший кран, но даже высокотехнологичное оборудование и отрегулировать дорогостоящий функциональный операционный стол, к которому недопоставили стратегически важную деталь. Иногда он оставался в своей «рабочей квартире» подвального этажа и на ночь.
Жена его умерла, а детям и внукам он был не очень-то интересен. Здесь же, у лифта, в любое время суток можно было заполучить собеседника, удивить его знанием арабских диалектов и предложить выпить по чуть-чуть из удивительных «командирских» рюмок. Лукьяныч был вроде роддомового, и понравиться ему считалось делом чести для вновь прибывших. Последних, впрочем, об уровне интеллекта «пролетария» осведомляли заранее, дабы те не опростоволосились, попав на удочку «Штирлица» в отставке. Любил он развлечься, закосив под пожизненного слесаря-сантехника, столяра-плотника и «ассенизатора, революцией призванного». После этой фразы он обычно прищуривался на новенького, и если тот отвечал: «О! Я тоже люблю Маяковского!», то в последующем он мог рассчитывать на помощь Лукьяныча в починке шкафчика, ящичка и даже внезапно поломанного каблука или севшего аккумулятора. А также в случае чего на психологическую кофейно-коньячную поддержку. Высокомерные же особи, считающие наличие врачебного диплома изначальной богоравностью и не опускающиеся с заснеженных белыми халатами вершин до перекура и беседы с простым тружеником халата синего, Лукьянычем презирались, и прогнозы, сделанные им в отношении будущего подобных субъектов, как правило, сбывались. Неизвестно было, чем таким он занимался ранее, но людей знал неплохо. Если не сказать – видел насквозь. Зильбермана Лукьяныч боготворил, на похоронах появился при полном параде, а после – три дня пил горькую, не выходя из своей подвальной норы, прежде вбив в стену гвоздь и повесив фото Петра Александровича с традиционной чёрной траурной лентой наискосок.