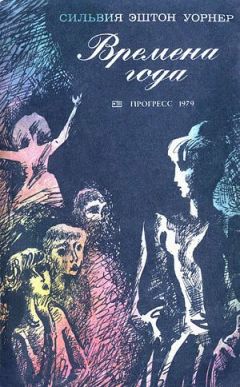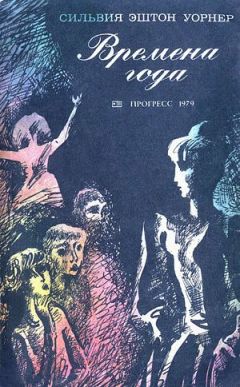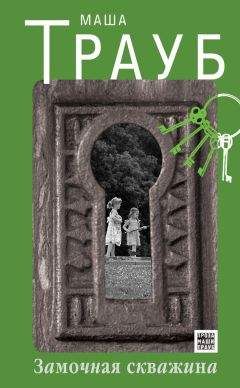Галина Таланова - Бег по краю
Вопрос о том, куда идти сыну учиться, в семье не стоял: было ясно, что сын будет поступать на биофак. Даже отсутствие перспективы найти хорошую работу не отпугивало.
76
Она смотрела на сына и думала о том, что это единственное, что у неё осталось в жизни ценного. Найти спутника жизни она уже вряд ли сможет. Все мало-мальски стоящие мужчины давно разобраны, а те, кто болтается подобно лодке, отвязанной в половодье и унесённой с суши растаявшими снегами, да так и оставшейся пока без руля и ветрил в ожидании того, что крепнущий ветер её куда-нибудь да вынесет, ей были, пожалуй, не нужны. Больше не будет ни весны, ни лета – одно лишь безвкусное, как водопроводная вода, время.
Сын для неё оставался во многом ребёнком, требующим её нежной опеки и постоянной заботы, но в то же время был уже достаточно взрослый, чтобы она могла сделать его неизменным советчиком и слушателем её переживаний. Она ловила себя на мысли, что ей постоянно хочется ему рассказать свой прожитый день. В то же время она часто замечала, что сын не слушает её, блуждает где-то внутри себя, по собственному лабиринту воспоминаний и предчувствий. Это её иногда обижало до слёз. Она начинала думать, что сын ускользает от неё, у него скоро будет своя жизнь, дверь в которую закрыта на замок с десятью степенями защиты, хотя пока сын охотно пересказывал события в университете и многие разговоры в лицах. При этом он отчаянно возбуждался, начинал жестикулировать, строил гримаски, пытаясь передать выражение описываемого лица, подражал его тону. В этот момент он становился похожим на маленькую обезьянку. Пожалуй, он редко давал ей дельные советы, но разговоры с ним стали для неё, как сливное отверстие в ванне сбоку: когда она переполнена и вода скоро может побежать через край – только боковой отвод предохраняет квартиру от затопления.
Сын теперь должен был быть всегда под рукой, будто носовой платок, чтобы вовремя промокнуть набухшие влагой глаза. Часто она сама, не дождавшись от него ответа, принимала нужное решение, но ей было легче это сделать после того, как она посоветовалась с сыном. Будто бы они вместе принимали это решение.
В то же время чуткое материнское сердце чувствовало, что её сын многое ей не рассказывает. Она пыталась несколько раз расспрашивать его, но натыкалась на грубость:
– Отстань! – нередко слышала она. – Поговори с кем-нибудь другим.
Обида нарастала в ней удушливым затишьем перед грозой, прорывающимся молнией, расколовшей уже где-то вдалеке горизонт.
– Смотри! Не будет меня, как отца, пожалеешь!
Сын глядел на неё глазами испуганного кролика, прижавшего уши. Мгновенно грустнел, пухлые его губы начинали нервно подёргиваться, взгляд устремлялся в бесконечность, весь он будто съёживался и становился похож на ребёнка, потерявшего маму в толчее магазина.
77
Весной, когда снег медленно сходил с лица земли, тут и там оставляя траурные ленты от впитавшихся в оседающие сугробы выхлопных газов и смога заводских труб, когда то и дело принимался моросить не по сезону нудный дождь, что вполне резонировало со звучанием струн души Лидии Андреевны и соответствовало её настрою вступить в серую безрадостную осень, осень деревьев, потерявших все свои листья и стоявших теперь одинокими и голыми, готовыми стеклянно зазвенеть от наступивших холодов, и всё она делала по инерции, с трудом переползая изо дня в день, когда перемёрзшая резина губ утратила свою эластичность и перестала складываться в улыбку, она вдруг обнаружила, что её сын всё время улыбается. Улыбка эта возникала у него спонтанно и была похожа на солнечный луч, пробивающийся между двумя тяжелыми пыльными шторами. То, что сын рассеян, ничуть не удивляло её, она сама могла засунуть книгу в шифоньер, а расчёску в кухонный буфет, одеть кофточку наизнанку, а правый тапок – на левую ногу. И не то, чтобы она была всю жизнь рассеянной, нет… Это последние события её жизни никак не отпускали её и, будто невидимые нити, притягивающие марионетку, тащили её за собой. Сама Лидия Андреевна была здесь, а её мысли там, где её близкие стремительной походкой уходили от неё, словно вырванный из рук налетевшим ветром воздушный шар. Так и её сын не слышал материнских слов, погружённый под воду своих мыслей, и это давно не удивляло её. Она могла разглядеть лишь пузырьки на поверхности, которые он выдохнул. Когда он выныривал на воздух, поднимал свои близорукие глаза на неё, щурясь, будто от солнца, и спрашивал: «Что? Что ты сказала?» – это вызывало в ней только жалость и гордость, что её мальчик, её кровинка страдает так же, как и она. Они будто сообщающиеся сосуды, содержимое одного тут же перетекает в другой. У них общая боль, общие воспоминания, потери и жизнь, которая ещё продолжается. Но то, что сейчас он не слышал её, потому что у него появилась своя отдельная и тщательно скрываемая от неё жизнь, было очевидно. Нездешняя улыбка блуждала по его лицу, её мальчик парил где-то высоко в облаках – и материнское сердце ёкнуло в предчувствии новой потери. Было ясно, что сын влюблён, и, видимо, взаимно.
78
Он всё время убегает от неё и никак не может убежать. Он завтракает с ней и ужинает… Она запрещает ему есть жареное и солёное. Она провожает его в институт, если сама не убегает раньше него. Она слушает все его телефонные разговоры и частенько вставляет свои реплики. Когда он говорит по телефону из своей комнаты, то слышит, как матушка осторожно поднимает трубку: в трубке тут же начинается треск и голос собеседника доносится, будто издалека по междугородней связи. Она начинает звонить его друзьям, если он где-то задерживается. Она роется в его бумагах и ящиках письменного стола. Она не выпускает его из дома в межсезонье без шапки, поэтому ему приходится выходить в шапке и за углом дома эту шапку снимать. Она знает все его рубашки и говорит, что ему куда надеть. Он получает от неё хозяйственную сумку и тюк с бельём в прачечную… Она вручает ему квитанции за квартиру и телефон. Она просит его сходить починить обувь.
Он, конечно, понимает, что ей сейчас очень тяжело, но нельзя же вцепляться в него так, что он оказывается, будто замурованным под обвалом из бетонных плит, обрушившихся при землетрясении. Вроде бы и жив, а пошевелиться и выбраться не можешь.
Он был одинок, и лишь внимательный материнский взгляд сопровождал его повсюду. Это было так невыносимо, что его одиночество постоянно обнажали. Ему хотелось спрятаться, зарыться, как ракушка в ил, стать лягушкой, напоминающей прошлогодний лист или камень, неядовитой змеёй, похожей на палку, мирно лежащей по обочине от тропы. Расспросы матушки злили его, и он не мог сдержаться, чтобы не ответить таким тоном, что расспрашивать его пропадало всякое желание. Он знал, что он единственное, что осталось у неё, и она безумно его любит, но любовь – это власть, а всякая власть парализует. Он, будто бабочка, запутавшаяся в паутине её любви. Эти шёлковые нити налепились на крылья – и он может ими только подёргивать, что напоминает мелкое трепыхание, трепет, страх и невозможность лететь туда, куда глаза глядят…
79
Лидия Андреевна думала, что всё пережитое и его детская любовь к ней связывают их обоих обязательством и договором, под которым они подписались кровью. Оказалось, что это не так, и кровью подписалась только она, подписалась при рождении сына. Она обнаружила, что он стал физически стесняться её и больше не переодевался в её присутствии. Чувствовала, что, как и дочь, начинает оберегать свои мелкие тайны, духовные и плотские, от её бдящего ока, старается скрыть их под кучей привычного и обыденного для её взора – и покров тот настолько плотен, что она не может не только увидеть его секреты, но даже и угадать…
Это вызывало боль, досаду, ревность и раздражение. Разве не мечтала она, когда запихивала в него по ложечке манную кашу, а он отворачивался от её ложки, ёрзая по подушке, подложенной на детский стул, что он всегда будет жить с ней, не скрывая ничего от неё и не стесняясь её? Разве не тешила она себя иллюзией, что дети станут как половинки одного апельсина, у которых она, мать, – кожура, толстая и надёжная, предохраняющая их от высыхания души, мысли и тела? Кожура и мякоть, по отдельности друг без друга не существующие. Старость и одиночество… Тут нужно научиться не цепляться за ноги близких и не тащить их вниз. Найти своё место и не мешать. Она понимала это, и её мать была в этом для неё примером, но тоска и боль как бы перечёркивали жирной угольной чертой это понимание. Её жизнь перегнулась, как нагретая стеклянная трубка, – и всё в ней теперь идёт под углом потерь. Тоска похожа на тонкую нить паутинки, протянувшейся между людьми. По краям её прилепились и сохнут жертвы одиночества, но и от них тянется нить к кому-то ещё…