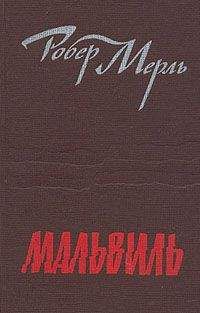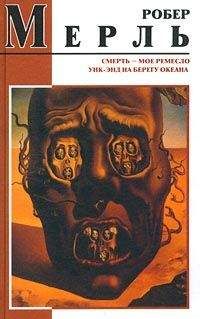Ольга Токарчук - Игра на разных барабанах: Рассказы
Зима подступала не торопясь, неумолимо затемняя мир. Длинные стонущие ночи, короткие дни, раскрошившиеся на отзвуки шагов наверху. Она со мной не заговаривала, и я тоже ничего не говорила. Смотрела из окна ей в спину, когда она выходила из дома. Чувствовала ее взгляд на затылке, когда выходила из дома сама. Видела, как она зонтиком делает дырки в земле по пути к остановке и плюет в них. Слышала шуршанье застилаемого постельного белья.
В ее отсутствие я часто поила его кофе. Сыпала в стакан две ложки сахара и мешала до тех пор, пока сладость не смягчала горечь. Он пил жадно, не поднимая глаз, выпивал все до дна. Я всегда делала первый маленький шаг, едва заметный, и совсем не потому, что мое желание было сильней, — нет, я хотела избавить его от чувства вины, обеспечить ему комфортное положение жертвы, отпустить грех еще до того, как он согрешит. Я закидывала ноги ему на бедра и сдерживала его. Не хотела, чтобы он был слабым, хотела, чтобы он был сильным.
Потом возвращалась она и делала ему свой кофе. Клала в чашку две ложки сахара и мешала до тех пор, покуда напиток не становился бархатным.
Так продолжалось до весны, пока неизменность хорошо выверенной конструкции не стала невыносимой. В тот день ни я, ни она не всыпали второй ложечки сахара в кофе. И поскольку это случилось в тот самый день, нам обеим стало ясно, что дочери — это часть матерей, а матери — часть дочерей. Другого объяснения быть не могло. Значит, он умирал два раза. Его не стало два раза. Раз для нее, и раз для меня.
Она сбежала босиком по лестнице, и мы бросились друг другу в объятия, плача, рыдая. Мы раскачивались в ритме «раз, два», нераздельные, вжавшиеся в пижаму и ночную рубашку. Она шептала только: «Он умер, он умер». Я говорила: «Его больше нет, его больше нет».
Но мы знали кое-что, чего он не знал ни тогда, когда был еще жив, ни теперь, когда умер: что жизнь после смерти — такой же сон, как и жизнь до смерти. Что на самом деле смерть — это иллюзия, и можно как ни в чем не бывало продолжать игру. Начала я — совершенно машинально, будто мне всегда был известен этот нелегкий ритуал, а она повторяла за мной. Она быстро поняла, что нужно делать, и теперь мы обе, глядя в потолок, шептали, чтобы он вернулся. Я тогда подумала, почему мы смотрим наверх, ведь у смерти нет ни верха, ни низа, ни над, ни под, она ни слева, ни справа, ни внутри, ни снаружи. Поэтому я велела нам исправиться, принять к сведению всеобщие правила и обращаться к смерти туда, где она была, — а была она везде. Мы били кулаками в стены и пол, уже не шептали, а кричали. Я старалась сосредоточиться, чтобы наши слова дошли до него, чтобы он понял их значение. Ведь я была уверена, что он, как и все, думал, будто умереть — значит просто перестать существовать. «Олег, — повторяла я медленно и отчетливо. — Олег, все намного сложнее». Как убедить кого-то, кого нет, чтобы он набрался смелости и снова начал быть? И она, моя красивая дочь с восточными чертами лица, хорошо понимала эту странную, неожиданно метафизическую проблему — что все возможно, что в нашем сознании ждут своего часа семена реальности. Есть только то, во что веришь. Никаких других закономерностей нет. И мы, как фурии, били кулаками в стены дома, кричали и звали. Она повторяла ему, как ребенку, взывала к его рассудку: «Перестань, проснись, это вовсе не правда, что ты умер, подумай логически». И я: «Олег, умоляю тебя, взгляни на это с другой точки зрения, сделай одно маленькое усилие».
И в конце концов он появился. Его контуры были еще размытыми, как будто он вышел из экрана телевизора. Его силуэт дрожал. Он был злой и растерянный. Я увидела его первой — я-то многое повидала на своем веку. Она чуть позже. Я сразу дотронулась до него — как бы он не забыл о своем теле, о своем желании. Но все было в порядке. Контур становился более четким, уже не мерцал. Тогда, словно получая положенную награду, я положила его на пол и крепко поцеловала в губы, и он страстно вернул мне поцелуй. Его губы материализовались под моими. Потом она сделала следующий шаг, и уже стало понятно, что он жив.
Это было время, когда пришла пора открывать окна, когда темные комнаты снова начинали манить к себе свежие хрупкие ветки глицинии.
Перевод Е. ПоповойБалерина
Эта развалюха, кажется, досталась им по чистой случайности. Говорят, они куда-то ехали, и кончился бензин, а поскольку был уже вечер, то заночевали в деревне со странным, неприятным названием — Душница. Когда-то здесь было маленькое курортное местечко: целебные воды, парк с фонтаном и два пансионата. Одного уже нет, а второй остался — его-то они и арендовали у гмины по дешевке, пообещав устроить там театр. Театр Танца в Душнице.
Ее привлекло то, что в развалюхе есть сцена.
Дом был небольшой, весь из дерева и красного кирпича — фахверковая кладка. Внизу раньше помещались стойка портье, кухня, а на веранде — маленькая столовая. Как в любой уважающей себя сельской гостиничке, там был танцзал, с северной стороны: стены до середины обшиты деревянными панелями — обветшавшими от времени, трухлявыми, кое-где обвалившимися, — и та самая сцена — тоже деревянная, небольшая, но все-таки сцена, а по бокам — выход за кулисы.
На втором этаже — несколько комнат и две ванные. И всё.
Она была очень худая, даже нет, не худая — тощая, как жердь, и какая-то усохшая. Все в ней было отвесное, устремленное ввысь — удлиненное лицо, длинный нос, длинные седые волосы, которые она носила распущенными, и потому слегка походила на ведьму. В ее возрасте женщины предпочитают аккуратные кудряшки или скромный пучок. У нее были тонкие гибкие руки с длинными пальцами и стройные ноги, всегда в брюках — со спины ее можно было принять за молоденькую девушку, но лицо выдавало возраст: сетка морщинок удерживала на месте черты, которые иначе, наверное, уже расплылись бы, стерлись. Когда-то она, вероятно, была красива.
Ее муж, партнер, или кто он там был (после трех месяцев попыток организовать театр он исчез), с виду казался моложе ее — или просто хорошо сохранился. А может, все дело было в том, что он подкрашивал усы и носил красные и голубые рубашки, ярким пятном выделявшиеся на фоне охры и тусклой зелени окрестностей. «Заткнись, любимая», — говорил он, когда у нее случались приступы дурного настроения, немотивированной злобы. Обиды на весь мир. Или когда ночами она стонала от боли в позвоночнике, от которой не помогало уже практически ничего. Он поворачивался на другой бок и говорил в темноту: «Заткнись, любимая».
Неизвестно, при каких обстоятельствах он ушел: возможно, они поссорились, и на сей раз — окончательно и бесповоротно. А может, ему опостылела эта развалюха — покосившаяся, с протекающей крышей и выбитыми стеклами на веранде. Как бы там ни было, он исчез.
Она держалась так, будто ничего не произошло. Только иногда просила фермера, у которого — единственного во всей деревне — была машина, привезти ей что-нибудь из города, или отправить почту, или оплатить счета за электричество. Кроме того, ей регулярно приходили деньги — то ли пенсия, то ли пособие. Порой она выбиралась в город сама и тогда покупала в аптеке кремы, лекарства и бальзамы. Всё — хороших западных фирм.
Сухая кожа, сколько с ней хлопот! Ее надо умащивать жирными кремами, а еще лучше — маслом какао, у которого такой приторный запах, что потом болит голова. Увлажнять, питать, массировать. Бывало, что самые лучшие, самые дорогие кремы не давали никакого эффекта, зато помогало обыкновенное оливковое масло. С такой вот кожей она родилась. Был у нее характерный жест: она проводила подушечками пальцев по лицу, по шее, по плечам. Кожа, казалось, трещит под пальцами — такая натянутая. Если бы люди могли гореть, как леса во время засухи, она полыхала бы, словно факел. Сухая и горячая — ей редко бывало холодно. А еще она становилась на кончики пальцев — настоящая балерина, — поднимала руки, набирала в легкие воздуха и ступала плавно, изящно, как будто танцуя.
Она не стала делать в доме ремонт. Время от времени нанимала для уборки кого-нибудь из деревенских, чаще всего одну молодую женщину — безработную, без мужа и с ребенком. Платила ей прилично, и та поддерживала порядок; впрочем, и убирать-то было особенно нечего: хозяйка передвигалась, как призрак, — легко и бесшумно. Ела она немного — если вообще что-то ела — и никогда ничего не разбрасывала. Жила в одной из комнат на втором этаже, в остальные не заглядывала. Только стелила за собой постель да затевала порой небольшую стирку. Еду себе не готовила — питалась фруктами, морковью, черным хлебом и мюсли с молоком. За молоком ходила в деревню. Пила его прямо из-под коровы, вызывая брезгливость хозяйки, которая эту корову при ней доила. В ее возрасте необходимо заботиться о костях. Остеопороз и прочие опасности. Человек делается хрупким, как высохшая тростинка.