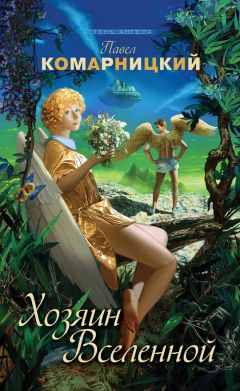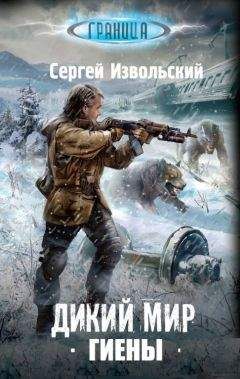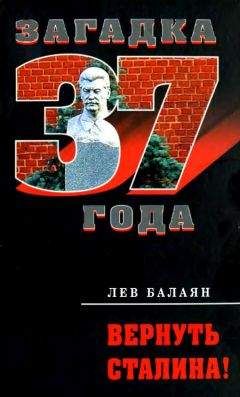Габриэль Руа - Счастье по случаю
И ему вспомнилось, как иногда он старался облегчить горе, встречавшееся на его пути. Ребенком он охотно отдавал лакомства младшим товарищам. И теперь еще он был способен на великодушный поступок, при условии, чтобы это не помешало свободному развитию его личности. Да, в этом была вся суть: он мог иногда поддаться порыву великодушия, но только если это не связывало его никакими путами. И вот — сколько привязанностей он уже отверг!
Флорентина теперь вся съежилась под пристальным взглядом его темных глаз, которые постепенно наливались неистовством. Вся неосмотрительность ее поведения стала для нее, наконец, очевидна — теперь, когда неотвратимое настигало ее и она понимала, что ей не спастись.
Она попыталась высвободиться, и, удерживая ее, он зацепился за лямку фартука. Тонкая полоска резины лопнула. И при виде порванного, повисшего фартука Жан окончательно потерял голову.
Он все же нашел в себе достаточно силы, чтобы шепнуть на ухо Флорентине:
— Ступай надень шляпу… и пальто…
Но он не отпустил ее и поверх ее плеча нашел взглядом старый кожаный диван.
Она упала навзничь, согнув колени, и ее маленькая нога судорожно дернулась в воздухе. Прежде чем закрыть глаза, она увидела взгляд богоматери и взгляды святых, устремленные на нее. Она попыталась было приподняться навстречу их скорбным ликам, которые надвигались на нее со всех сторон и умоляли ее — безмолвно, упорно и грозно. Жан, казалось, еще готов был отпустить ее. Потом она вытянулась во весь рост на продавленном диване, в той самой ложбинке, где спала по ночам рядом со своей маленькой сестренкой Ивонной.
За окном, над предместьем, овеянным глубоким воскресным покоем, колокола звонили к вечерне.
XVII
В этот воскресный вечер Жан долго шел куда глаза глядят, ненавидя самого себя. Но не из-за того, что страдальческое лицо Флорентины неотступно стояло перед его глазами, а из-за ясного и отчетливого ощущения, что он окончательно и бесповоротно отказался от своей свободы. Иногда он нетерпеливо дергал головой, словно пытаясь разнять две руки, обвившиеся вокруг его шеи. Неужели теперь повсюду, где бы он ни был, его так и не покинет ощущение, что с его жизнью неразрывно связана какая-то другая жизнь, ощущение постороннего вторжения в его судьбу, из-за которого воспоминание об утраченном одиночестве стало ему теперь в тысячу раз милее, чем когда-либо раньше? Его осаждали и другие тревоги, гораздо более определенные. Как поведет себя теперь Флорентина, чего она будет от него ждать? Но на этих мыслях он не стал задерживаться. Больше всего он был огорчен утратой того чувства полной независимости, которое исключало всякую ответственность перед другими. О чем он думал? До сих пор он всегда умел ограничивать свое любопытство осторожными покушениями, легким флиртом, который никогда не переходил в настоящее ухаживание. Смутное отвращение зашевелилось в его душе, он осознал тайную причину своего страха: его пугали последствия связи с молодой и неопытной девушкой. «Так вот до каких мыслей я дошел!» — подумал он, презирая себя больше за эти колебания, чем за свой поступок с Флорентиной.
Он быстрым шагом пересек улицу Сен-Жак. Свет уличного фонаря ударил ему в лицо, а затем его снова поглотил сумрак улицы Бодуэн, которая становилась все более темной и неприглядной по мере того, как он приближался к каналу Лашин. Потом он очутился на улице Сент-Эмили, тускло освещенной, с маленькими, украшенными резными балкончиками и башенками на крышах, лавочками, почти одинаковыми на всех углах. Порой, проходя под мигающим фонарем, Жан различал фасад с длинными зигзагами ржавых потеков в тех местах, где из года в год стекала дождевая вода. Под теплым южным ветром, который поднялся к ночи, снег начал подтаивать. Казалось, в тишине пустынной улицы можно было услышать, как он тает и растекается мелкими грязными ручейками. Со всех крыш, с намокших ветвей срывались тяжелые капли и с шумом унылого затяжного дождя разбивались о мостовую.
Эта неотвязная потребность оправдаться перед самим собой раздражала Жана, сбивала его с толку и заставляла все время думать об одном и том же. Действительно ли он хотел причинить Флорентине зло? Он чуть было не запротестовал вслух. Нет, нет! Еще сегодня он старался внушить себе, что он должен пощадить ее. Быть может, именно оттого, что он поступил вовсе не так, как собирался, он и злился теперь на себя. В душе ему хотелось бы сохранить о Флорентине память, не омраченную презрением, он хотел бы, чтобы ее образ был связан для него с тем смутным ощущением жалости и тревоги, которые она на какое-то мгновение в нем пробудила. Когда? Он уже не мог бы сказать точно. Быть может, это ему только показалось.
Отныне между ним и Флорентиной уже не будет воспоминания о вьюжной ночи, о буре, которое напомнило бы ему: «Я отпустил ее потому, что она сама бросилась мне на шею, такая безрассудная, такая неискушенная!» Отныне между ним и Флорентиной будет жить только воспоминание о скрипе старого дивана, о звоне пружин, о блике света через треснувший абажур. Образ Флорентины может изгладиться из его памяти, образ ее юности может побледнеть, но никогда не забудет он ужасную нищету, которая окружала их в минуту любви. Это воспоминание было тягчайшим оскорблением, оно бросало тень на его чувство превосходства, на его честолюбивые замыслы и, наверное, будет и впредь вставать перед ним в минуты успеха — и тем более навязчиво, чем значительнее будет этот успех!
Жан шел быстрым шагом, зажав шляпу под мышкой, и ветер развевал его волосы. Он не мог не признаться самому себе, что был по-настоящему потрясен: ведь в его жизни до Флорентины была только одна женщина, намного его старше, — она сама завлекла его, и ее лицо уже совсем изгладилось из его памяти. Но Флорентина! Он вдруг вспомнил тревожное, почти умоляющее движение, когда она попыталась отнять у него пальто и шляпу, робкое движение, показавшее, как боится она остаться после его ухода наедине со своими мыслями. «Бедная глупышка!» — пробормотал он, не столько, однако, сочувствуя ей, сколько сожалея, что именно он принес ей горе и разочарование. Теперь он уже не сомневался, что ее неосмотрительное поведение объяснялось только ее полной неискушенностью. По-новому узнав ее, он понимал теперь, откуда бралась смелость ее поведения. Какой застенчивой и неловкой была она на самом деле! Какую детскую беспомощность увидел он в ней! Но нет, он не будет больше думать о том, что случилось. А не то он проникнется состраданием или совсем уж невыносимым чувством потери свободы.
Стрелки на циферблате часов церкви Сент-Анри близились к полуночи, когда он вышел на улицу Нотр-Дам. Потом он пересек уже погруженную в глубокий сон площадь Гюэй, где призрачные деревья отбрасывали на мостовую колеблющиеся тени. Их контуры расплывались в тумане мелкого-мелкого весеннего дождя.
Жан преодолел наконец тот рубеж, на котором мысль человека о совершенной им ошибке еще тревожит его, не давая ему успокоиться, словно с этого момента вся его жизнь должна пойти по-иному. Он перешагнул этот рубеж, прошел этот этап и больше уже не думал о последствиях своего поступка — так разрушительный вихрь, проносящийся над равниной, не видит оставшихся позади развалин. Он бежал в эту ночь от безмерного смятения, в котором оставил Флорентину, и с каждым шагом все больше отрывался от содеянного. И тихий дрожащий голосок: «Мы завтра увидимся, Жан?» — долетал до него теперь с огромного расстояния, которое все увеличивалось и увеличивалось. Да, когда она задала этот вопрос, он на минуту заколебался, не зная, что ответить. Но теперь этот голос уже замирал в его ушах, ненужный, как оклик, потерявший смысл, и больше не отвлекал его от навязчивой мысли: необходимо найти выход, который уберег бы его от новой уступки Флорентине, необходимо вновь обрести свое «я». «Оторвать, оторвать от себя все, что осталось позади!» — он был настолько одержим этой мыслью, что невольно заговорил вслух. «Оторвать от себя!» И он знал, что отбросит не только воспоминания, такие неприятные для его самолюбия, но и целый этап своей жизни, который, быть может, кончился сегодня вечером. «Пора, давно уже пора избавиться от всего этого». Он жаждал избавления тем более бурно, что главное препятствие на его пути представлялось ему в образе простой девушки, которая не хотела преградить ему дорогу, а только робко, упорно, потеряв всякую гордость, следовала за ним. Мысль о том, что она по-настоящему любит его, что лишь страсть могла ослепить ее до такой степени, мелькнула в его голове, но отнюдь не успокоила, а только озлобила еще больше. Эта слепая, упорная любовь, которую она осмелилась питать к нему, казалась ему теперь просто оскорблением.
Он дошел до улицы Сент-Антуан, содрогавшейся от далекого грохота трамвая. Выйдя из темноты, Жан невольно зажмурился. Падавший на асфальт свет витрин показался ему ослепительным. И все же он устремился к этому свету, как человек, бегущий от наваждения, которое становится сильнее во мраке и молчании. Сейчас больше всего — больше, чем от воспоминаний об этом вечере, — ему нужно было избавиться от мучительной мысли, что Флорентина его любит.