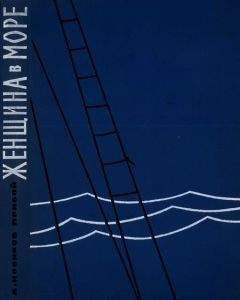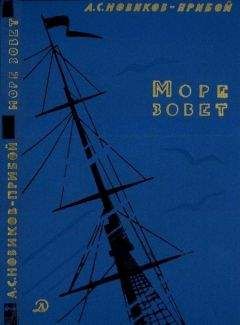Дмитрий Новиков - Голомяное пламя
Мужиков сто в толпу согнали. Самых ловчих, самых гордых, самых удачливых. Виноград земли северной, Белого моря ценителей. Те, кто остался, по домам сидели, глаз не высунут. А этих как скотину окружили да погнали по дороге в чужедальщину. И лишь скрылась из виду толпа нестройная за ближайшею варакою[31], поднялся над деревней вой женский, словно звериный, больной по-смертельному.
День мы шли, ни продыху, ни еды. Два раза из болота напиться разрешили. Так до самой Чупы дотопали. Баржа уже наготове. Старая, чуть живая. В трюмах воды по колено. Вот туда нас и загнали на ночь. А там с деревень поморских других мужики сидят. Кто знаком, кто слышан. Перемешались все, стали расспрашивать. Да не ясно ничего, во всех деревнях одно. Будто кто специально высматривал, выслушивал – чуть где человек недовольство выскажет, на запись сразу. Везде свой Федька был. Вот и обернулось так. Теперь сиди в трюме, жди погоды морской. Кто говорил – на Соловки повезут, крепостцы чинить. Кто – на канал какой-то, будто строить стали из моря Белого да в озеро Онежское. Третьи вообще молчали.
Ну а чтоб без дела да в мокроте не сидеть, выпросили у охранников несколько ведер. Из досок конопаток наделали да за ночь щели все в барже законопатили, воду вычерпали. К утру как раз управились. Под рассвет уже на сухом спали.
Не сильно и темнело ночью, а всё равно поутру лучше видать стало в трюме – кто где. Глядим, и Федька наш тоже здесь. Без былого гонору, побитый, поерзанный. А всё командовать пытается да рассуждать. Отец ему – что ж ты ночью молчал, когда судно правили? А он – у каждого свое дело. Вот я вам скажу – вы власти своей недоверие выказали, теперь поправлять дело нужно, помогать. Великие стройки начинаются, великие дела. А со мной, говорит, ошибка вышла, доберемся до назначенного места – разберется всё, развиднеется. Отец ему – ну, мели, Емеля, твоя неделя. Один раз тебе верили, теперь второго дожидайся. Но ничего, с паршивой овцы тоже польза – сумел Федор у часового выспросить, на Соловки пойдем, говорит, крепость монастырскую править.
Засветлело когда совсем – двигателек завели, стронулись с места. Дыры в бортах такие, что всё видно. На палубе начальник какой, охранников пять человек, два пулемета, на носу и на корме. И нас – двести человек в трюмах.
А как вышли из Чупинской из губы, тут побалтывать стало прилично. Да и видно, погода та еще намечается. Небо синее, а на северо-востоке такая черная тучка, далекая, маленькая. Ветерок тоже – полуношник, не ко времени да порывистый. Чайки пропали из виду, а чтоб они любой корабелишко не встречали-провожали – редкое дело. Не к добру всё, а к буре. Мужики, хоть от дома оторванные, а морезнатцы – спокойно не сидеть. Наверх кричат – армейцы, повертывать надо, погода не наша. Но тем, сухопутным и беспутным, что снизу указания? И начальничек их тот еще важный, не отвечает, слышим, лишь командует – до места добраться засветло хочет. Вот не знает, дуролом, что на море загадывать – последнее дело. Бога просить, да Бога нет у них, повыгоняли из храмов и кресты поскидывали. И царя в голове нет – как из Глубокой Салмы из-за Пежострова вышли, тут взводень пошел серьезный. Баржа трещит, скрипит, переваливается с волны на волну, как бегемотица неумелая. Волнишка через борт потихоньку захлестывать стала, опять в трюмах прибавилось. Мы черпать, да опять начальству неумному, нововластному подсказать пытаемся – повертывать нужно, пока не поздно. Тот, видно, призадумался немного – море, оно кого угодно перед мыслью поставит, но потом решительно, пустая голова, – прорвемся, кричит, не такое за войну и революцию видали. Именем трудового народа, говорит, вперед.
Свет померк совсем. Старики молятся, молодежь – та разучилась уже, только крестятся некоторые двуперстно. Другие же хорохорятся, смеяться пытаются. А какие с морем смешки. Волна острая пошла, злая, долбит в борт что твой дятел. Ветер летит клочьём. А тут смотрим – совсем озверели рулевые наши, от страха ли, или от бесовского наущения. Прошли кое-как мимо Сосновца-острова, и они вдоль берега на Шарапов-мыс правят. Тут уж совсем страх побежал по сердцам да головам. Шарапов-мыс – место гиблое. Даже в спокой обходить его пытаемся подальше, а тут морюшко разошлось.
У Шарапова-мыса места отмелые, течение большую волну подымает. А если ветер другую волну гонит, то нахлестнут они друг на друга, закипит море, запляшет беспорядочно, безумно, как припадочный какой. Волна в два раза больше подымется, да с разных сторон, пена, ветер – такой он, наш поморский ад, сувой[32] называется. Вот и эти чертовы дети, смотрим – аккурат в сувой правят, напрямки пройти хотят, будто не видят ничего. А как им видеть, если в глазах да в ушах революция, там ведь думать да смотреть не нужно, знай кричи да круши. Старые знания с борта сбросили, новых не нашли.
Отец мой застучал кулаками в крышку трюмовую – вы, кричит, нас не жалеете, себя хоть пожалейте, пустоголовые. В голомя держите, скорее в голомя уходить нужно. Да куда там, поздно уже. По самой среди сувоя Шарапова есть корга, Сибиркою зовется. Даже в самую отмелую воду не открывает ее море, так и лежит подлая твердь под гладью морской. И в бурю не разглядеть ее посреди прочих бушеваний. Знать нужно да Варлааму Керетскому молиться, чтобы мимо провел, коль забрели по дурости в круговерть эту.
Да поздно уже. Прямо на Сибирку и посадил баржу начальник самоопытный. Прямо на Сибирку.
А от корги до берега да пятьсот метров. А жизнь свою спасать святое право, покорным это невдомек. Как услышали по камням скрежетание сначала, а потом грохот снизу, так поняли всё сразу. Баржа встала, как уперлась в стену, на камни – как на пьедестал. И ну ее волны колотить, что воронье безжалостное случайную лесную птицу. Вода в трюм хлынула, словно в сухое горло влага. По палубе забегали, как кутенята глупые, в испуге, в визгах и рыданьях. Мы ж навалились все и вынесли от трюма крышку, будто паром пароходным сорвало бы угрюмые котлы, мы ж – голыми руками, словно Бог помог. На палубе охранники забились по углам, от страха чуть живые. Кругом ревело, грохотало море, жестокий батюшка, но всё ж с ним лучше, чем с людьми безумными. Перекрестясь, мы стали прыгать в воду, и леденящими объятьями сжимало море грудь стальными обручами. Сжимало, а потом и отпускало, и можно было плыть средь пляшущих тяжелую пляску волн.
Многие доплыли бы. Не все – взяло бы море свою дань. Но оглянулся я – сквозь воду и ветер, вдохнув его, схватив ртом – успел увидеть страшное. Когда побежали все к бортам, Федька что-то нам кричал про предательство, про побег, про не простит страна. Да глупости, кто будет в такую минуту слушать! А он метался, оголтелый, по палубе и чувствовал, наверное, опять себя начальником, правым всегда. Не научился от предыдущего, которого не видно было, – смыло, видать, волной. И что за сила бесовская в этих людях, в нелюдях – схватился руками своими цепким за ручки пулемета на корме. Я не поверил ни глазам, ни душе своей – Бог отвернулся в тот момент от нас, от всех, и от него.