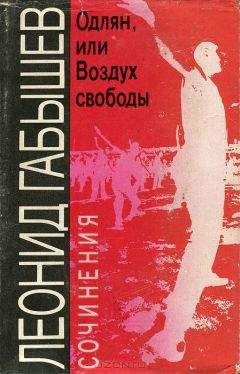Леонид Габышев - Одлян, или Воздух свободы
Ребята недружно затянули:
Страна доверила солдату
Стоять на страже в стальных рядах…
— Отставить! — приказал Карухин. — Вы что, строевую разучиваете или покойника отпеваете? Приготовились. Начали!
Получилось чуть живее. Спели первый куплет.
— Отставить! — резанул рукой Карухин. — Вы что, в самом деле на похоронах? Веселее, говорю, а не мычать… Передохнули. Расслабились. Три-четыре!
Опять пропели первый куплет.
— Издеваетесь надо мной! — заорал Карухин. — Мы что, спрашиваю, поем панихиду или советскую строевую?
Сегодня в цехе обойку дуплили. Кирпичев пожаловался Мехле, что все квелые, работают из рук вон плохо, и Мехля, собрав воспитанников в подсобке, прошелся палкой по богонелькам. С отбитыми руками заработали шустрее, чтоб мастер доволен был. Мехля пацанам крикнул вдогонку:
— Сегодня, падлы, дуплить буду в отряде. Чтоб крутились как заведенные.
— Так, — кипел между тем Карухин, — не получается у вас эта песня. Ничего, получится.
После этих слов Мехля вышел из ленинской комнаты и вернулся с палкой. Встал рядом с воспитателем, а конец палки поставил на носок ботинка.
— Вы, в натуре, — начал базарить Мехля, видя, что воспитатель молчит, — если сейчас хорошо не споете, то петь будете после, перед отбоем, а может, и сейчас. — Сказав, рог посмотрел на воспитателя. Карухин молчал. — Так, выдры, — продолжал Мехля, — на счет «три» чтоб подхватили дружно, поняли? Считаю: раз, два, три!
Ребята неплохо запели, но Карухину опять не понравилось, и он снова резанул ладонью.
— Отставить! Вы что, не хотите петь лучше? Рома, я выйду ненадолго, а ты поразучивай с ними один.
— Первая шеренга три шага вперед, марш!
Воспитанники шагнули.
— А теперь станьте свободнее. Вот так.
И Мехля начал охаживать ребят палкой, не разбирая, куда она попадала. Лишь по голове не бил. Отоварив первую шеренгу, принялся за вторую. Если удары приходились по печени или почкам, ребята падали. Он перешагивал и дуплил следующую шеренгу. Глаза он отоварил два раза: один удар пришелся по богонельке, другой по грудянке. Мехля метил ударить еще раз, но Глаз отскочил, и удар, предназначавшийся ему, пришелся другому. Пацан рухнул.
Мехля построил всех в четыре шеренги.
— Теперь будете петь. — И он отправился за воспитателем.
Избитым ребятам сейчас хотелось спеть другую песню.
Глазу показалось, что ребята затянули не строевую, а «Гимн малолеток»;
Что творится по тюрьмам советским,
Трудно, граждане, вам рассказать.
Как приходится нам, малолеткам.
Со слезами свой срок отбывать.
Но песня только чудилась. Глаз стоял в строю обкайфованный. Он поймал неплохой кайф, когда удар березовой палкой пришелся по груди.
Но вот пришел в себя. Оглядел комнату. Вспомнил, почему отрад стоит здесь. Глаз вертел головой, как бы чего-то выискивая, на самом деле взгляд ни на одном предмете не останавливался, а блуждал по стенам, по лозунгу «Мы строим коммунизм», по портрету Ленина. На портрете взгляд задержался. Ленин сосредоточенно смотрел на ребят: то ли он им сочувствует, то ли тоже требует спеть строевую отлично. Глазу вспомнилась другая песня. Сознание провалилось, и почудилось: ребята вдохновенно поют ее, с болью и мольбой гладя на портрет Ильича. Глаз заткнул уши — песня зазвучала тише, опустил руки — песня вновь полилась;
Как хороша вечерняя столица,
Как ярко светят в ней тысячи огней,
И поневоле сердце будет биться.
Когда увидишь старый Мавзолей.
Проснись, Ильич, взгляни на наше счастье,
И ты увидишь восемнадцатый партсъезд.
Как мы живем под игом самовластья
И сколько нами завоевано побед.
Проснись, Ильич, взгляни-ка ты на сцену.
В литературу тоже не забудь,
А за железные и мрачные кулисы
Родной Ильич, не вздумай заглянуть.
Здесь много крови, здесь страдают люди.
Здесь нет того, что ты нам завещал.
Здесь нет советских честных правосудий.
Здесь месть, штыки, насилье и разврат.
На наших шеях все Дворцы Советов,
На наших шеях армия и флот,
О нас не пишут ни в книгах, ни в газетах
И не хотят, чтоб знал о нас народ.
Но все равно народ о нас узнает.
Как расцветал социализм.
Как люди в тюрьмах кровью истекали
И проклинали советский коммунизм.
Ильич, Ильич, за что же ты боролся —
Чтоб бедный люд сгибался в три дуги.
За свой же хлеб слезами обливался
И целовал чекистам сапоги?
Чтоб он терпел насилья, пытки, муки.
Чтоб жизнь свою он ставил на туза.
Чтоб отрубал он собственные руки
И в двадцать лет выкалывал глаза…
Мехля вернулся с Карухиным.
— Рома сказал, что теперь будете петь, — добродушно сообщил воспитатель, — давайте попробуем. Приготовились — начали!
Отряд громко, быстро запел строевую. Глаз еле шевелил губами.
Сознание провалилось. В ушах звучали три песни сразу; одна — строевая, вторая — «Гимн малолеток» и третья — «Как хороша вечерняя столица».
Строевая спета, и воспитатель похвалил ребят.
— Давайте еще раз. Только теперь будем маршировать.
Отряд затопал на месте и затянул песню. Глаз не шевельнулся. Сзади его толкнули, он пришел в себя и, сообразив, что надо маршировать, зашагал на месте и подхватил строевую.
— Вот, — сказал Карухин, когда кончили петь, — сразу бы так, давно бы гуляли. — Он помолчал и громко скомандовал: — Разойтись!
Все повалили на улицу. Кто закурил, кто отправился на толчок, кто лег на траву. Глаз сел на лавочку. Закурил. Мысли путались. Сознание работало нечетко. Хотелось одного — одиночества. Провалиться бы под землю и побыть одному. Но земля не разверзнется и не поглотит его. Куда деться? Где побыть одному? Если бы его сейчас толкнули с лавочки, он свалился б на землю. Сил сопротивляться у Глаза не оставалось.
Такое состояние стало появляться все чаще и чаще, особенно после избиений. Начинал думать о Вере, и появлялся ее образ, но вскоре расплывался, и на ее место всплывали отец и мать, но и они пропадали, и появлялись другие близкие лица. Потом появлялся кто-нибудь незнакомый, и Глаз часто моргал, стараясь прогнать его из воображения. Иногда с ним кто-то разговаривал. То утешал его, то ругал, снова успокаивал и говорил: «Терпи, терпи. Глаз, это ничего, это так надо. Ты должен все вынести. Ведь ты выдюжишь. Я тебя знаю, что же ты скис? Подними голову. Одлян долго продолжаться не будет. Ты все равно из него вырвешься».