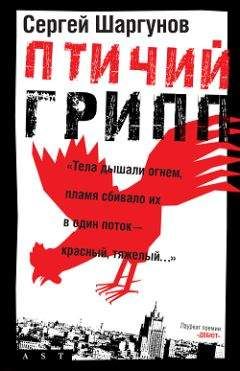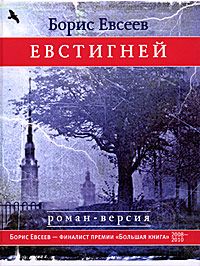Борис Евсеев - Лавка нищих. Русские каприччио
Я похолодел. Значит – в обезьяны? Значит Мастер-О – вовсе не даун?
– Вы и на других внимание обратите! – Мастер-О ткнул меня локтем в бок, и вдруг действительно мастерски, действительно неподражаемо, как крупная человекообразная обезьяна, зацокал и защелкал языком, застучал дробненько ногтем по зубам. Потом вернувшись на миг к языку человеческому, крикнул:
– Троле, Энка!
Из дальних зарослей тотчас выдвинулись два черных макака и один павиан. Макаки были резво-веселы, павиан – скучал.
– Рекомендую! Троцкий-Ленин, Энгельс-Каутский. Двойные имена нужны для ммм... научных целей.
– А павиан кто?
– Павиан? Горби, конечно. Имя, знаете ли, штука хитрая, штука неслучайная, не ко всякому телу и прирастает, не во всякую шкуру влезает. Имя, оно..
Короткий, дико-заполошный крик с хрустом надорвал влажную простынь сада.
– Назад, Кацо, назад! Крик мигом стих.
– Смутьян тут у нас завелся. И хитрый же, бестия! То всю дорогу молчит, а то...
Новый и теперь уже смертельно-надсадный крик разодрал слитное тело сада надвое, разодрал окончательно. Горбленый седоватый шимпанзе, сжимая передними лапами нож, выскочил на садовую прогалину.
– Так-так-так-так! – зачастил вшитый в обезьянью шкуру, гнутый в дугу и, как показалось, скрыто плаксивый человечишко. – Так я вашу шкуру, так!
Взмахнув ножом, человек-шимпанзе пропорол собственную шкуру сверху донизу. На узком лезвии проступило несколько отдельных капель крови.
И тут оказалось: среди обезьян никакого равенства нет! А идет тайная и злобная борьба за власть. Дарвину – хочется женщин, и он победив Мастера-О, будет проводить политику «женскую». Кацо – хочет пустых, но верных глаз и хочет излишней среди зверей одинаковости. Троле и Энка – не хотят ничего. Они спят и видят бесконечные драки, борьбу...
ООО! Общество Ограниченных Образин? Орден Ошалелых Оборотней? О! О! Ууу!
– Меланья! Дарвин! Хватай его! Вяжи эту шкуру продажную! Коммуну приматов рушить? Шкуры дырявить? За хвост, за хвост цепляй!.. – заходился в крике Мастер-О, рвался из пут шимпанзе, грозно приседал Дарвин, трусливо выставлял морду из кустов Горби.
Под аккомпанемент сумятицы и криков, – рванул я на «несадовую», человеческую половину дома, а оттуда – на весеннюю улочку.
Два лохотронщика резались в конце улицы в карты, путь на железнодорожный вокзал был закрыт, отрезан! Придерживая плащ, я побежал в сторону противоположную, обмирая сердцем, поймал частника, попросил увезти меня куда-нибудь прочь, в другой город, на юг, на запад, на восток!
Частник оказался толковым, внимательным, сказал, что держит путь на Ростов-Дон, ну и меня довезет, конечно. И за смешную плату!
3Год прошел в размышленьях о NVEKe.
Вернувшись в Москву, опасаясь преследований и слежки, я долго не выходил из дому. Однако никто из сторонников Noveishego Vsemirnogo Eksperimenta меня не искал. Правда, начав наконец выходить из дому, я два-три раза видел подозрительных двойняшек с мудро-застывшими обезьяньими лицами, в оранжевых длинных пальто, подпоясанных длиннохвостыми и тоже оранжевыми кушаками. Как сращенные кем-то братья, шли они: глядя в одну сторону, рука об руку! Шли, чуть вздрагивая, и, кажется, сами чего-то опасаясь.
Слежки не было, однако стало тревожить другое.
Мне внезапно до рези в горле, до сердечного спазма захотелось назад, в дочеловеческий сад животных! Хотя и понимал я отчетливо: вовсе не назад «к природе», а назад к дохристову, даже к доязыческому безумию кличет нас Мастер-О!
Однако ж...
Осторожно спускаюсь я во все тот же подземный переход. На мне – старушечья долгая куртка, в шею влеплена накладная широкая борода, губу щекочут отпущенные загодя усы, в руках – купленная третьего дня трость. Им не узнать меня, не узнать! Зато я узнаю все вокруг.
Я хочу и боюсь! Боюсь и хочу! Я хочу в дочеловеческую жизнь, но с одной только Меланьей! Без соглядатаев и сотоварищей!
И...
Снова теплая подземная весна. И опять лучше ее – нету, нет! Снова тайны происхождения видов и естественного отбора щекочут мне ноздри!
Я спускаюсь в переход и, конечно, вижу лохотронщиков (правда их гораздо меньше и это уже другие лохотронщики). Вскоре замечаю я и слегка погрустневшую и, надо сказать, постаревшую Меланью-Карменситу.
Теперь она уже не цокает каблучками, удаляясь по переходу, а стоит на месте. В руках у нее небольшая картонная табличка. На табличке косо нацарапано:
Новый зверинец на паях
ТАМБОВСКАЯ ОБЕЗЬЯНА
(Obezianus tambovas)
Индивидуальный тур
Страстно и медленно, повинуясь зову таблички, крадусь я к желанной Карменсите, к новому неизведанному существованью!
Я сам хочу стать Мастером Обезьяны! Сам хочу добраться до рычагов естественного отбора! Я – обезьян! Я расшибусь головой об изъян человека!
Я – обезьян, потому что хочу им быть. Я тамбовская обезьяна! Я стал ею потому, что нынешней, тускло-греховной, безбрежно свободной и оттого теряющей всякий смысл жизни – боюсь.
НЕЧУЙ-ВЕТЕР
Жизнь прошла – не заметил.
Да и что прошла она, понял только сейчас. И дело не в том, что кончилось что-то важное или уж очень необходимое – ничего важного в его жизни не было – а дело в том, что вдруг втемяшилось в голову: для кого-то постороннего, раньше с ним никак не связанного, вдруг стал важен каждый изворот и любой привесок его жизни.
Может, жизнь его важна для соседнего, черно-зеленого, до дурости веселого леска? Да, может.
А, может, для сырой земли? И для той, наверное. Хотя для земли важен, скорей, каждый килограмм его убойного – не усушенного еще и не утрушенного, но уже и не «живого» – веса.
Ну а для рвано-пушистых, реденьких в тот час облаков – важен, ясное дело, далекий перезвяк его души: неосторожно срывающейся с места, падающей, а затем жалко постукивающей внутри него базарными мелкими гирьками.
Кося Валуй стоял у шоссе, на остановке, как раз под табличкой с надписью «Чистые Соли». Перейти на противоположную сторону он боялся. Дорога визжала и крякала, пухла выхлопами, лязгала железом. Чуть поодаль – варили и укладывали асфальт.
На другой стороне были дачи и крутой изгиб реки. Чуть левей – старинные гати. На горе, над гатями – кладбище.
Кося шел на дачи наниматься сторожем, вместо умершего Егорки-пионера.
Пионером Егорку звали до глубокой старости. Тот терпел, улыбался, подымался на носки, чтобы с невидного своего росточка дотянуться до собеседника и объяснить ему: никакой он не пионер, просто не привык бузить и красть.
Жизнь у Егорки-пионера была радостной – все-таки семьдесят шесть годков, – а кончина легкой.
Кося Валуй перестал вспоминать про Егорку, стал вспоминать про себя. Зачем это его Косей прозвали, а не Колюнькой или Николашей?
«Ну, Егорку, понятно, – за „пионерскую зорьку“ прозвали. Голос Егорке был дан звонкий и чистый, как горн: утром запоет – весь трудовой поселок пробуждался. А меня-то, меня за что?»
Имечко в руки не давалось. Кося даже и припоминать бросил, как вдруг с лугов донеслось ржание.
«За резвость и нескладность, за жеребковатость прозвали. Оно и правда: длинный был и нескладный, а ласковый, ручной. Как жеребеночка подзывают – так и меня тогда подзывали: „кось-кось – на тебе сахару!“ Одно „кось“ – отвалилось, к другому буковка „я“ прилипла. Вот и вышло: Кося».
Чтобы не подымать лишний раз руку, не утирать бегущую слезу, Кося задрал голову вверх, стал смотреть на подъем дороги и поверх него.
Пересечь это кипящее адской смолой, плюющееся дымом пространство вызывались помочь незнакомые дети: сперва два паренька, потом какая-то девчушка. Кося отнекивался. Бензин ему не мешал, даже свежил, не давал на ходу уснуть.
Да и на дачи было еще рано.
Он стал думать о давнем, но оно противилось, ускользало. Тогда он стал вспоминать ближнее, сегодняшнее: нет денег, нет лекарств. В поселке все разворочено: строят и строят. Конца не видно.
Ничего непривычного в дне сегодняшнем не было. Кося высунул язык, поводил им по верхней, потом по нижней губе: налет бензина, как и налет всего сегодняшнего, хорошо на языке ощущался. А вот сам язык был каким-то незнакомым, чужим.
«Так и жизнь седняшняя, как этот налет: поводил кто-то языком – и слизнул ее начисто. Совсем и не чувствуешь жизни», – подумал про свое житье-бытье и про свой язык, как про что-то постороннее Кося.
Вдруг поперек дня сегодняшнего в голову вскочило старое.
Припомнился случай, приключившийся давно, лет сто назад.
Случай вышел с приказчиком, дальним Косиным родственником по отцовской линии.
В 1903 году приказчик нашел клад. Но распорядиться им как настоящий промышленник или хотя б как купец не смог. Накупил всякой всячины – сеялок-веялок-молотилок, съездил на крестьянскую ярмарку в Баварию, был зачем-то даже в Бухаре и Хиве, здесь же неподалеку начал строить дом, но скоро забросил.