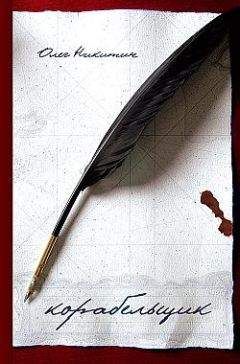Юз Алешковский - Карусель
— Слабак, Давид, ты слабак, — проговорил Михей, когда я, шатаясь и держась за спинку кровати, перебрался на свое место и лег. — Что же ты меня не угробил? Я бы тебе спасибо, возможно, сказал на том свете. Как думаешь, имеется он в нашем распоряжении?
Я молчал, закрыв глаза. Меня нисколько не занимали слова Михея.
— Молчи, хрен с тобой. Но добром за добро ты отплатить обязан. Я тебя откачал, ты уж было холодеть начал, а ты меня все же пореши. Оклемайся и пореши. За меня такого никто тебя не осудит. Я же тебе не все рассказал и прояснил. Ты еще кое-что услышишь. Не поверишь, но все оно так и было. Про каждого убиенного тебе расскажу. Расскажу, как чуяли они, бывало, что час ихний близок, но не могли понять подсказки свыше и маялись ужасно от смертной тоски, самогонищем-обормотом заливали ее. Мне же и бабе моей большой интерес был от такого подгляда. Нам-то как-никак все ясно, а им муторно в неизвестности и последней маете. Во как! Мне и про себя сейчас вот все ясно. Только ждать неохота, когда подохну. Тошно ждать…
Нет, думал я, раз удержала меня судьба от самосуда, то второй раз я уж на тебя руки не подниму. Я сейчас следователя вызову и все, что ты говорил мне, повторю слово в слово, все факты передам, обстоятельства и фамилии. Вот только смогу встать — и вызову.
— Очень тошно ждать, — повторил Михей.
— Удавись, — искренне посоветовал я.
— Ну уж — хуюшки! Не дождешься!
Из каждого людоедского слова перла такая ненависть, такое зло ко всему белому свету, что я представил, в каком прижизненном аду живут Михей и его душа, если таковая имелась, и испытал мстительное злорадство.
— Не можешь удавиться — расколись следствию, — сказал я.
— А вот этого вы тоже не дождетесь! Не бывать! Нету у людей права судить меня! Сами такие и еще хуже. Да! Хуже! Немало мной продумано про это. Но мне плевать на вашен-ские грехи! Не легче от них, провалитесь вы все пропадом!
И тут, слава богу, я почувствовал, что нечего его мне судить. Он уже судим, и сжирает его изнутри долгой предсмертной тоскою и могильным холодом казнь. И ничего я никому не скажу, чтобы не приблизить тебе, сволота, суда людей, возможного расстрела и избавления от минуток жизни, которые тягостно тянутся для тебя с утра до вечера и не дают покоя, уверен я, даже во сне, потому что ты воешь и стонешь от каких-то ночных ужасных видений.
Но когда Михей начал на следующий день, понимая, как это меня изводит, вспоминать то, чего я вам не могу больше пересказывать, с такими сводящими с ума подробностями и наблюдениями, я забарабанил в дверь и заорал:
— Сестра!.. Сестра!.. Сестра!
На крик мой в палату быстро явилась зав-отделением — блондинистая крыса, которая мною раньше вообще не интересовалась.
— В чем дело, больной Ланге?
— Уберите меня отсюда! — нервозно затараторил я. — Если не уберете… не знаю, что будет… вены себе перережу… вы меня лечите или с ума сводите?
— Судя по вашей реакции на соседа, лечение продвигается медленно. Больным не предоставлено право выбирать себе больничные условия. Вы не в санатории. Сейчас вам дадут успокаивающее!
— Позвоните вашему «профессору» Карпову и скажите, что у него будут со мной осложнения, — закричал я. — Вы все сволочи и садисты! Садисты и преступники!.. Фашисты! — орал я, чувствуя, как мне легчает от крика.
Крыса, не вступив со мной в спор, ушла. Вместо нее прибежала с таблетками коротко остриженная сестра с желтым лицом.
— Выпейте, Давид Александрович, — сказала она, и я, решив, что действительно не мешает успокоиться, выпил таблетку, запив ее теплой водой, и сказал, поскольку мне показалось, что в глазах сестры промелькнуло на миг человеческое сочувствие:
— Садизм — держать нормального человека рядом с этой мразью.
Михей, между прочим, валялся в одной позе: тупо глядя в потолок. Симулировал, сволочь, отключку и изредка гундосил:
— Парашютики… гы-ы… папамасеньки люкаем… сиказвондия парашютиков…
— Что он вас съест, что ли? — пошутила сестра.
— Я его съем!.. Понятно?.. Я-я! — завопил я, не сумев удержать себя.
— Успокойтесь, прошу вас, — сказала сестра. — Лучше вам не буянить, ясно?
— Я и так в «бублике»! Мне терять нечего, — сказал я. Но внезапно успокоился. Наверно, пробрала таблетка. И тогда я подумал, что мне нужно выдержать единоборство с людоединой, а если он снова попытается изводить меня своими чудовищными байками, я ему сделаю так больно, что и подохнуть он не подохнет, и существование ежедневное проклянет. Не дам я себя изводить, не дам!
Я, почувствовав возвращение сил после обморока, подошел к Михею, применил, ни слова не говоря, один старый прием, как в разведке при взятии языка, пока Михей лежал с побагровевшим лбом, с высунутым языком и глазами, вылезшими из орбит не столько от боли, сколько от ужаса, и твердо предупредил:
— Если ты еще раз откроешь свою пасть, паскуда, получишь то же самое. Я не шучу. Довести меня до того, что я тебя прикончу, — не доведешь. Не пожалею я тебя и греха на душу не возьму. За то, что привел в сознание, спасибо. Дошло?
Михей с готовностью задергал, закивал своей башкой, одолевая удушье. Отдышался. Уткнулся лицом в подушку и тихо завыл: он плакал. Плакал, зверь, а в сердце моем начало шевелиться чувство, опередившее ехидное, мстительное злорадство, — безрассудная жалость, и жить в эти минуты от наличия его в сердце и от сознания, что обращено оно к твари, не имевшей, на мой взгляд, права на сострадание, было неимоверно горестно, тяжело и непонятно.
— Сплю я, — говорю, — чутко. Не пытайся свести ночью счеты со мной. Жизнь тебе покажется непереносимой пыткой. Все. На воды, выпей и гундось себе про папамусеньки и парашютики.
Больше Михея не было слышно. К вечеру за мной пришли санитары: бывший участковый, расстрелявший семью, и туповатый верзила. Взгляд у него был неподвижный и мутный.
— Вставай. Пошли, — сказал он.
— На расстрел, — весело добавил участковый. На эту его обычную шутку никто в психушке уже не обращал внимания.
И вот — новое свидание с Карповым. Глаза у него были воспалены то ли от бессонницы, то ли от пьяни, смотрел он не на меня, а куда-то в сторону, и мне ужасно захотелось сказать: «Ну что? Хероватенькие (плохие) у тебя дела, жандармская скотина?» Однако я промолчал, без приглашения сел на стул и с беззаботным видом стал глазеть по сторонам. На этот раз меня привели в партком психушки, завешанный, как и все парткомы, лозунгами, фотографиями членов политбюро, диаграммами насчет развития промышленности и сель-ского хозяйства области и заставленный гипсовыми бюстами спасителей человечества Маркса, Энгельса, Ленина и почему-то писателя Шолохова. При этом я проникался уверенностью, что все-таки тиснул он, а не сам сочинил «Тихий Дон». Наверняка тиснул. Невозможно для всамделишного писателя, повидавшего столько, сколько повидал автор «Тихого Дона», и так замечательно описавшего все это, наблюдать, как Шолохов, с позорным и бездарным равнодушием за кровавой историей своей Родины и ее народов. Наблюдать, жрать, пить, ловить стерлядку, стричь купоны, получать премии, фиглярствовать всю жизнь, как площадная дешевка (блядь), с трибун собраний и съездов и помалкивать. Быть может, думал я, пока Карпов барабанил по столу пальцами «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы…», Шолохов, подобно многим сам-издатчикам, сочиняет нечто грандиозное типа «Архипелага», но только о жизни советских людей на так называемой воле, и держит до поры до времени в ящике стола трепетные, правдивые, написанные кровью листки? Возможно, в какой-то миг он прекратит многолетнюю маскировку и покажет миру собственное лицо, приведя этим самым в содрогание и ужас своих всесильных покровителей из ЦК и карательных органов, и даст людям, изголодавшимся по описанию реальной житухи, жестокое, но помогающее осмысленно существовать слово? Кто знает, думал я, может, в этот самый момент принимает Шолохов в своем богатом имении на берегу многострадальной реки какого-нибудь замечательного западного деятеля типа архиепископа Кентерберийского либо Анджелы Дэвис, за освобождение которой из проклятой вашей, дорогие, тюрьмы я пять раз голосовал на заводских митингах. Принимает их он, поит водочкой, подкармливает стерлядкой, давно занесенной в Красную книгу, маскируется, как всегда, диссидентов и нашего брата жида обвиняет во всех неудачах строительства мировой коммуны, а потом говорит Анджеле Дэвис: «Иди-ка сюда, Анджела». Заводит ее Шолохов для пущей маскировки от магнитофонов и членов семьи в сортир, не бойся, говорит, товарищ Дэвис, у меня давно от переживаний и опасной работы не действует женилка, закрывает дверь на ржавый крюк, достает из-за пазухи здоровеннейшую рукопись многолетнего своего труда под названием «Война и мир, или Зачем они сражались за социализм, партию и справедливость?» и поясняет шепотом: «Увези ты это дело в Америку, Анджела, на животе, чтоб труд всей жизни не пропал для меня и людей. Отдай его там у себя в печать, а все гонорары направь сюда, в наши тюрьмы закрытые, в лагеря трудовые и в психушки для помощи политзаключенным борцам за права человека, для писателей посаженных, поэтов, художников и прочих Иванов Денисовичей невинных. Если же обшмонают тебя сволочи на таможне, беги в аэропортов-ский сортир и быстро спущай роман о десяти пятилетках в унитаз. Можешь съесть его частично, чтобы он не достался живым кагэбэшникам, следящим за каждым моим шагом и отравляющим мою пищу спецтаблетками, убивающими в больших писателях талант и совесть, но не убивших их до конца. Так и передай всем простым людям доброй воли и, главное, заблуждающимся насчет смысла российской истории некоторым либеральным интеллектуалам. Отечественная словесность, дорогуша ты моя, тебя не забудет. Ступай позови сюда епископа облапошенного. Я ему свой последний донской рассказ притырю под рясу». Не без интереса я доверился тогда игре фантазии.