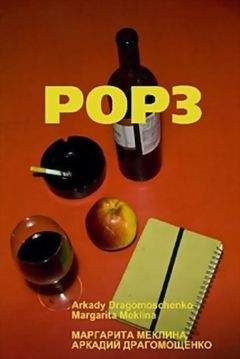Маргарита Меклина - Моя преступная связь с искусством
В семь тридцать утра Словинский позавтракал и лег вздремнуть — однако, от покалывания во всех мускулах, в восемь проснулся. Тогда, осознав, что непоправимое все-таки произошло, доктор Словинский собрал вокруг себя всех членов научной экспедиции в Бурме и объяснил им, чего ожидать.
Спокойно уточнив, что яд покинет его тело лишь через сорок восемь часов, Словинский во всех подробностях описал процедуры, которые могут спасти его жизнь. Он оповестил коллег о том, что паралич будет прогрессировать с каждой минутой, но что он будет находиться в полном сознании даже тогда, когда уже не сможет пошевелить ни одним пальцем.
В восемь пятнадцать утра два ассистента уже спешили в близлежащий город за помощью. Пока они отсутствовали, речь Словинского стала совсем спотыкливой. Вскоре он мог общаться лишь с помощью клочка бумаги и ручки, а примерно в час дня потерял способность дышать.
Даже после того, как он утратил способность дышать сам по себе, ученый продолжал писать записки. Еще несколько человек отправились в город, чтобы вызвать оттуда вертолет, который бы доставил его в местный госпиталь — однако, вертолеты не прилетали из-за создавших нелетные условия муссонных дождей.
В четыре утра Словинский уже не мог общаться даже при помощи жестов и пытался подавать знаки при помощи большого пальца руки. Все это время — а именно в течение двадцати шести часов — коллеги делали ему искусственное дыхание методом «рот-в-рот».
В двенадцать двадцать пять дня, в среду 12 сентября 2001 года, сердце Словинского остановилось — и в течение трех часов коллеги делали ему непрямой массаж сердца и продолжали использовать метод «рот-в-рот», периодически задирая головы вверх и ожидая прибытия вертолета, однако, вертолет так и не прилетел.
Официальной датой смерти Словинского стало 12 сентября.
13-го наконец прилетел вертолет.
Зеркало номер 5 Криминальный кирпичНедолюбливающий рептилий Линней, подразумевая змей, любил повторять: terribilia sunt opera Tua, o Domine! что в переводе означает «ужасны твои творения, Господи!», и эти слова прекрасно подходят человеку, который сделал все, чтобы карьера моего любовника пришла к концу.
Этим человеком был тот самый горшечник, который цветистостью биографии попытался затмить нехватку цвета и ритма. Все его работы были сделаны не то что наспех, но нарочито и напоказ, в них отсутствовал внутренний тайный огонь, и казалось, что даже печи, в которых он обжигал свои золотые горшки, были холодными.
В Персию этот служка искусства просочился из одной из сочных как плод, солнечно-советских республик, и газеты не могли обойтись без сообщений о том, как «мастер» переплыл реку «под прицелами автоматов, которые держали в руках краснозвездные, кровожадные воины, настолько зачарованные бронзовым телом бесстрашного беглеца, что выстрелить по его угольночерной, скачущей как поплавок, голове никто не решился».
Без преувеличений тут, разумеется, не обошлось, ведь наш беглец был, как глиняный колосс, хлипок и жидконог, несмотря на нравящиеся женщинам беглые, как очередь из пулемета, быстрые речи, и обстоятельный, неспешный лавмейкинг.
Узнав, что женщины были от него без ума, я раздобыла изданный Светом Любви каталог: безупречный не только во вкусе, но и в детальности, с которой бросался на каждое дело, мой любовник нанял самых изысканных иранских фотохудожников, чтобы они отдельно сфотографировали каждый горшок, — и таким образом в альбоме было чуть больше тысячи мелованных, плотных страниц, а сам он видом и тяжестью больше смахивал на мраморную плиту, чем на книгу.
На каждой второй странице красовалось «произведенье искусства»: на седьмой странице оно было освещено лучами, на пятнадцатой — задрапировано зеленой бархатной тканью, на двадцать седьмой — частично закрыто серой тенью, на пятьдесят пятой — представлено зрителям во всей простоте, на отмытой до блеска столешнице; на шестьдесят восьмой — стояло на ломящейся от посуды роскошной полке, а на сто первой демонстрировало позолоту рядом с как бы оброненным с пальца женским обручальным кольцом.
На обороте каждой страницы было указано, когда и где горшок был обожжен, и когда на него был нанесен золотой слой.
В самом начале каталога помещался портрет Творца: Горшечник был горбонос и темноок, и его смуглость лишь подчеркивалась блестящей черной кожаной курткой, из тех, что носят мотоциклисты, и которая не только должна защитить в случае падения на твердый асфальт, но и придает хлипковатому телу угрожающую, угреватую мускулистость, а мужскому органу — в глазах мечтательно глядящих на Горшечника женщин — нужную твердость (худощавый, нервный Горшечник смахивал больше на жиголо, чем на живописца).
В предпенсионном возрасте он сменил глину на гранты, каким-то образом убедив местный муниципалитет дать ему деньги на фуры или, проще говоря, на здоровенные тягачи с тянущимися за ними платформами, на которые он воодрузил огромные, десять на десять метров, картины.
Эти полощущиеся на ветре полотна на открытых платформах представляли собой раздутые до непомерных размеров средневековые армянские миниатюры с изображениями ангелов, которых наш грантовый горбоносик срисовал с ветхих, полузабытых, уже почти никем не читаемых рукописей, и теперь возил по нищей, полной помидоров и песка на зубах, калифорнийской округе, останавливаясь у каждого фруктового стенда, у каждого трейлера с коричневыми неаппетитными тако; у каждого столба, где, под табличкой «за наем нелегального рабочего — штраф», собирались оборванные, на все готовые личности в лоснящихся шляпах с полями; у каждого виноградника с изнемогшими работягами, у каждой мотыги и моторхоума с его харкающими, морщинистыми, жующими табак обитателями, и таким образом «знакомил с искусством народ».
……………………………………………………………………………………
Но вернемся к началу его карьеры в искусстве.
Он пока в Персии и никаких мечтательных женщин, никаких наработок у него еще нет. Сзади — нацменская куцая юность в одной из кавказских республик, впереди — полный мрак в еще более мракобесной стране.
Поскитавшись по Персии под видом «изучения народных ремесел», горемычный Горшечник осознает, что его лепка по сравнению с работами настоящих умельцев бледнеет, и начинает рекламировать новый вид мастерства, заключающегося в покрывании домашней утвари позолотой, которая якобы проявляет скрытую, сакральную силу обыкновенных вещей.
Он даже успевает заключить пять-шесть контрактов с владельцами сногсшибательно широкометражных, построенных на широкую ногу, домов, возжелавшими, чтобы Мастер покрыл их черепицы золотой пылью, — однако, Иранская Революция и злобные муллы расстраивают все лукративные, рахат-лукумные планы, и Горшечник, как и мой любовник, бежит.
Очутившись в Америке, он тут же вызывает жалость к себе, объявляя посетителям ресторана, в котором работает, что моет тарелки вместо ваянья горшков — то есть вынужден возиться с грязной посудой вместо того, чтобы заниматься чистым искусством — и тогда недавно женившийся на ереванской оперной диве знаменитый скульптор R.S. зовет его к себе в студию и назначает незавидный, хотя и неизменный месячный заработок, чтобы Горшечник возводил там без устали стальные и чугунные стеллы — которые, за их ненадобностью, надо с регулярностью разрушать.
Горшечник так преуспевает в этом занятии (а также в двурушнических, двугорбых дуэтах с ереванской оперной дивой), что в совершенстве овладевает техникой известного скульптора (а кое-какую технику и превосходит) и с закрытыми глазами имитирует его монументальные, встречающиеся во двориках музеев, в парках и садах стеллы — однако, это занятие не приносит ему никаких слитков славы, ибо и на те стеллы, что разрушает, и на те, что скульптор просил сохранить, он вынужден наносить инициалы «R.S.»
Прознав, что Свет Любви тоже перебрался в Америку, так и не вкусивший вожделенной славы (но купающийся в вожделенье) Горшечник разыскивает его и требует своей доли за давно разбитые золотые горшки.
Мой любовник ссылается на отсутствие денег, и тогда выдохшийся вымогатель предлагает ему импортировать из сумасшедшего дома в Европе масляных «Укротителей», разумеется, с уведомлением, что эти картины — всего лишь кропотливая копия, а не настоящие кобры.
Какое-то время они этим и занимаются: в Америке растаможивают «Таможенника Руссо», а из Америки поставляют в Европу абстрактный экспрессионизм и граффити, — но затем Горшечник, прикрываясь именем моего любовника, продает франтоватому французскому дилеру Т. фальшивого Пьера Боннара, а когда тот просит вернуть деньги, берет покрытый позолотой кирпич, оборачивает его бумагой с короткой и отталкивающей, как его средний палец, запиской, и забрасывает в окно нью-йоркской гостиницы дилера.