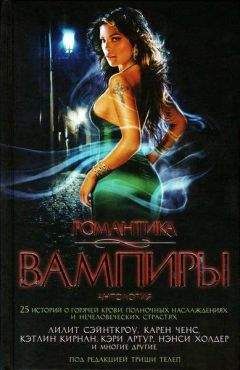РИЧАРД ФЛАНАГАН - КНИГА РЫБ ГОУЛДА
Потерянный, подавленный и оскоплённый, имеющий в наперсниках лишь сего чудовищного борова — нужно ли говорить, что нынешний мистер Лемприер утратил всякое желание забрать меня у Коменданта, чтобы я снова рисовал ему рыб.
Я попытался нарисовать несколько рыб масляными красками, коими теперь меня весьма щедро снабжало Интендантство для писания портретов Коменданта. Но масляные краски годятся больше для обитателей суши; они слишком тяжелы, слишком «весомы» и слишком непрозрачны для рыб. Мне требовался Докторов набор акварельных красок.
И я решил повидать мистера Лемприера в надежде вновь пробудить в нём интерес к созданию атласа рыб. Я вознамерился испросить у него позволения воспользоваться его красками, дабы продолжить работу над книгой в те немногие свободные минуты, которые смогу для этого улучить.
Я уверял себя, что хочу рисовать рыб исключительно ради подстраховки — на случай, если вдруг лишусь места при Коменданте; пускай у меня будет что-нибудь про запас кроме работы в команде колодников. Но то была, разумеется, ложь, и, хотя я изо всех сил старался, чтобы ум мой не проведал о тайне, кою скрывало сердце, истина состояла в том, что ныне, когда мне уже не приходилось трудиться ради науки, отношение моё к рыбам опять изменилось: мне теперь не хватало того, что прежде я ненавидел. По какой-то необъяснимой причине я теперь нуждался в рыбах.
Сперва то была всего лишь работа — рисовать их, но для исправного её исполнения и сохранения за собою благ, с ней тесно связанных, мне пришлось многое понять в рыбах. Изучить, как растут из их туловищ плавники, как свершается чудо перехода оных из матовой плоти в поразительное полупрозрачное состояние, выяснить природу столь упругой гибкости рыб, осознать, как соотносится величина рта со слишком крупными размерами головы, а та, в свою очередь, — с длиной их тела, разглядеть, как одни чешуйки накрывают другие, образуя переливчатый, блестящий наряд, который словно сам по себе исполняет волшебный танец.
У одних рыб мне хотелось подчеркнуть невыразимую чувственность рта, у других — свет, проходящий сквозь плавники. И мне следовало бы признать, что бесконечная возня с набросками не прошла для меня даром.
Может, из-за того, что я потратил на рыб слишком уж много времени, или потому, что был вынужден постоянно пытаться побольше узнать о них, они сперва заинтересовали меня, а затем стали злить, что было ещё хуже, ибо так они начали проникать в мою жизнь, становиться частью меня, а я тогда даже не отдавал себе отчёта в том, что они «колонизировали» меня, причём столь же уверенно и нагло, как некогда губернатор Боуэн Землю Ван-Димена.
Они ввинчивались, сверлили меня буравчиками, просачивались в мельчайшие поры, повинуясь воздействию некоего осмотического давления, и это ужасало меня. И когда в моей голове забрезжило наконец страшное подозрение и я начал постигать происходящее, они уже завладели всеми моими дневными мыслями и ночными видениями; я испугался и возжелал изжить их, извергнуть, отогнать прочь, как поступали мы все с черномазыми дикарями. Но как воевать с умирающим морским петухом? С кефалью, по телу которой пробегает предсмертная дрожь?
Похоже, проведя наедине с рыбами столько времени, я просто не мог избежать того, чтобы взгляд их холодных глаз и трепет их плоти преодолели, словно по воздуху, пространство, кое отделяло их от моей души.
Глагол «преодолеть» я употребил неспроста.
Казалось, дух их ищет какую-то иную влажную среду и, когда смерть неминуема, дабы обеспечить своё выживание, норовит перескочить, перепрыгнуть смертельную для него полосу воздуха движением столь неожиданным и молниеносным, что оное просто нельзя проследить невооружённым глазом.
Мне вдруг пришло в голову: а вдруг, подобно тому как на ярмарке синее пламя вылетело из открытого рта висельника и вселилось в мою мать, всякий дух ищет чьего-либо глаза, чтобы в страшный миг смерти войти чрез него в обладателя оного и не попасть в мир небытия, населённый тенями потерянных душ?
Это была глупая мысль, как и давнее моё решение сходить ещё раз к дочери Старины Гоулда, после того как она объявила о помолвке с торговцем железом из Сэлфорда; я даже просил её бежать со мною, но коварная рассмеялась мне прямо в лицо; мне было просто необходимо вернуться к моим рыбам… зачем? Ведь с тех пор как невменяемый Доктор взвалил на меня задачу нарисовать елико возможно больше сих новых обитателей моей души, её, так сказать, ссыльнопоселенцев, хозяйничающих там как им заблагорассудится, задачу, которую затем я, ещё более невменяемый, стал выполнять добровольно, мне уже не представлялось никакой возможности вырваться из их коварного плена, избавиться от их непрошеного присутствия, когда они начали плавать во мне, пробираясь на задворки сердца и мозга, готовясь в один прекрасный день взять надо мною полную власть.
И откуда я мог знать в тот час, когда пошёл проведать мистера Лемприера, что в его объёмистой голове кроется дурацкий план соединить навеки в одно единое целое рыбу и меня самого?
III
Тем ясным и безветренным зимним утром, когда я держал путь к дому мистера Лемприера, мне повстречались два одетых в грязные рубища каторжника. Тяжело дыша и чертыхаясь, они тащили за собой что-то вроде санок, на которых лежали длинные и тяжёлые мешки из дерюги.
— Опять сдохшие черномазые, — проговорил один каторжанин, стараясь не глядеть ни на меня, ни на мешки.
Нынешняя партия дикарей появилась в колонии на предыдущей неделе, в тот морозный день, когда пошёл сильный снег, и привёз их один белый по имени Густер Робинзон, мировой посредник. Все они были сильно истощены, плохо одеты, лишь некоторые кутались в какие-то жалкие шкуры, многие кашляли, отплёвывались всё время и лопотали что-то непонятное, а кроме того, то и дело полосовали больную грудь или горло разбитыми бутылками и острыми камнями. Когда от болезни у них начинался жар, они тем же манером резали свои лбы, и кровь текла по их лицам — так они пытались, по их словам, «выпустить боль». Вскоре по прибытии они стали дохнуть как мухи.
И всё же сии обречённые дикари смотрели на нас, арестантов, как бы сверху вниз. По их понятиям, они были свободными джентльменами, променявшими родину на чужбину в ответ на обещание правительства позаботиться о них — и уж вовсе не для того, чтобы работать здесь так, как мы. Ночью в Пенитенциарии некоторые каторжане мочились сквозь щели в дощатом полу на расквартированных этажом ниже туземцев, дабы тем самым доказать им превосходство белого арестанта над сосланным дикарём.
За исполнение предначертанной властями острова донкихотской миссии, состоящей в отлове туземцев, — а выполняя оную, Робинзон должен был объездить все тёмные, дикие леса Трансильвании вдоль и поперёк — его почтили высоким званием мирового посредника, вменив в обязанность теперь устраивать облавы уже на всех дикарей, кои ещё не отказались от слишком затянувшейся войны с колониальным правительством, а таких в неосвоенной части Земли Ван-Димена оставалось весьма много.
На портретах, виденных мною в Хобарте, — величавых полотнах, где художник вотще пытался отразить благородную и трагическую историю спасения туземцев, коим просто не повезло быть нашими антиподами, — Густер Робинзон, весь озарённый льющимся на него светом, величественно осанистый, чётко выделялся на фоне тёмной массы дикарей, указуя перстом куда-то в незримое будущее, эдакий ренессансный пророк, шагнувший на авансцену в пёстром наряде времён Регентства, весь в море синих и белых бликов, ни дать ни взять сам Бо Бруммель в роли невероятно фатоватого Моисея Южных морей. Но, когда за мною прислали солдата, чтобы пригласить на встречу с Густером Робинзоном, и я увидел его воочию, он оказался совсем другим.
В своё время туземцы дали ему некое прозвище; помнится, словечко то означало «морской угорь», но я сейчас не возьмусь воспроизвести его в точности. Нужно признать, в нём и вправду угадывалось нечто от обрывка бечёвки, ибо он был ещё более худ, чем его чёрные подопечные. Сутулый, какой-то весь изогнувшийся, в лохмотьях, таких же засаленных и завшивленных, как наши, он напоминал некий апостроф, отчаявшийся найти слово, коему должен принадлежать, и, уж конечно, не источал никакого света, но одно лишь самодовольство и самолюбование по причине добровольно взятой на себя ноши, кою почитал святой.
Робинзон воспринимал дикарей как свою свиту, своё окружение, свой, так сказать, антураж, — а те пригревали его, как заблудившуюся собаку, которых они частенько находят во время своих странствий по ван-дименским лесам и берут к себе. И никто при этом не ощущал, как земля уходит из-под ног, опадая, подобно морской волне.
Робинзон считал каторжников отбросами и относился к тем людям, которые смогли бы спокойно разгуливать перед нами голышом, так низко он ставил нас, столь же ничтожных в его мнении, как шелудивый пёс, что заслуживает разве только пинка, или ночной горшок, годный лишь для того, чтобы в него мочиться. Когда я вошёл, он разговаривал с Мушею Пугом, которого явно почитал стоящим на более высокой ступеньке здешнего общества, ибо тот, хотя и был каторжником, но всё-таки исполнял должность констебля; не пожелав заметить моего появления, Робинзон продолжил беседу и повёл речь о том, что чернокожие дикарки, похищенные охотниками на тюленей и увезённые ими на острова, заявляют, будто сам дьявол является к этим людям, когда они охотятся, и вступает с ними в связь, а те, понесши от сего адского духа, затем тайком, в кустах, разрешаются от бремени и убивают на месте новорождённых отпрысков зла. А ещё чернокожие утверждают, что их похитители поют, дабы усладить дьявола, и что дьявол велит им петь много.