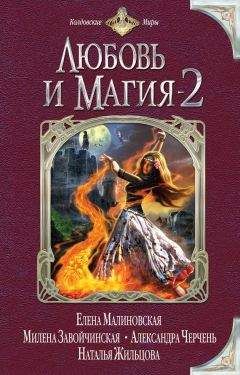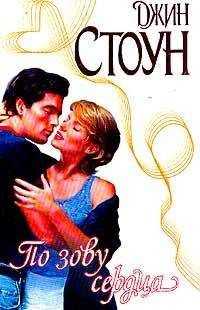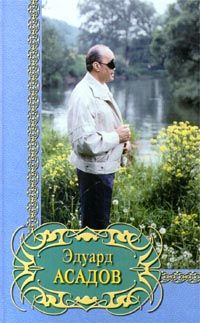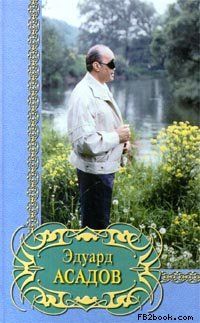Эдуард Асадов - Что такое счастье. Избранное
Наступит ли конец света
Наступит ли в мире конец света?
Не знаю. Но, думаю, это — ложь.
Он есть постоянно зимой и летом
У каждого — свой. Потому, что это
Тот день, когда ты, увы, умрешь…
А что до суда, то вздохнем невольно:
Ведь жизнь обрывается навсегда.
Какого ж еще нам тогда суда?
Наверное, смерти вполне довольно!
14 декабря 1991 г.
Переделкино
Ты даже не знаешь
Когда на лице твоем холод и скука,
Когда ты живешь в раздраженье и споре,
Ты даже не знаешь, какая ты мука,
И даже не знаешь, какое ты горе.
Когда ж ты добрее, чем синь в поднебесье,
А в сердце и свет, и любовь, и участье,
Ты даже не знаешь, какая ты песня,
И даже не знаешь, какое ты счастье!
Соловьиный закат
Ты смотришь вдаль чуть увлажненным
взглядом,
Держа бокал, сверкающий вином.
Мы тридцать лет с тобою всюду рядом,
И ничего нам большего не надо,
Чем быть, и думать, и шагать вдвоем.
О сколько в мире самых разных жен?!
Как, впрочем, и мужей, добавим честно!
Ах, если б было с юности известно:
Как звать «ЕЕ»? И кто тот самый «ОН»?!
Ты помнишь: в тех уже далеких днях,
Где ветры злы и каждому за тридцать,
Мы встретились, как две усталых птицы,
Израненные в драмах и боях.
Досталось нам с тобою, что скрывать,
И бурного и трудного немало:
То ты меня в невзгодах выручала,
То я тебя кидался защищать.
Твердят, что в людях добрые черты
Распространенней гаденьких и скверных.
Возможно, так. Да только зло, наверно,
Стократ активней всякой доброты.
Мы верили, мы спорили, мечтали,
Мы светлое творили, как могли.
А недруги ревнивые не спали,
А недруги завистливо терзали
И козни всевозможные плели.
За что ж они так зло мутили воду?
Злил мой успех и каждый шумный зал.
Хор критиков взрывался и стенал,
А ты несла стихи сквозь все невзгоды,
И голос твой нигде не задрожал.
— Ты с ней! Все с ней, — шипели фарисеи,
— Смени артистку, не дразни собак!
Есть сто актрис и лучше и моднее, —
А я шутил: — Ну, коли вам виднее,
То лопайте их сами, коли так! —
Откуда в мире столько злых людей?
Вопрос, наверно, чисто риторический.
К примеру, зависть, говоря практически,
Порой в сердцах острее всех страстей.
И все же сколько благодатных дней
Стучалось в сердце радостной жар-птицей
В потоках писем и словах друзей,
Стучалось все упрямей и сильней,
И до сих пор стучалось и стучится!
И разве счастье ярко не сияло
В восторгах сквозь года и города?!
Ты вспомни переполненные залы,
И всех оваций грозные обвалы,
И нас на сцене: рядом, как всегда!
В сердцах везде для нас, как по награде,
Всходило по горячему ростку.
Ты помнишь, что творилось в Ленинграде?
А в Киеве? А в Минске? А в Баку?
Порой за два квартала до дверей
Билетик лишний спрашивала публика.
Ты вспомни: всюду, каждая республика
Встречала нас как близких и друзей!
И если все цветы, что столько лет
Вручали нам восторженные руки,
Собрать в один, то вышел бы букет,
И хвастовства тут абсолютно нет,
Наверно, от Москвы и до Калуги!
Горит над Истрой розовый закат,
Хмелеют ветки в соловьином звоне…
Давай-ка, Галя, сядем на балконе
Вдохнуть цветочно-хвойный аромат…
Про соловьев давно уже, увы,
Не пишут. Мол, банально и несложно.
А вот поют под боком у Москвы,
От звезд до околдованной травы,
И ничего тут сделать невозможно!
Летят, взвиваясь, трели над рекой,
Они прекрасны, как цветы и дети.
Так сядь поближе, и давай с тобой
Припомним все хорошее на свете…
В душе твоей вся доброта вселенной.
Вот хочешь, я начну тебя хвалить
И качества такие приводить,
Какие, ну, — хоть в рамку и на стену!
Во-первых, ты сердечная жена,
А во-вторых, артистка настоящая,
Хозяйка, в-третьих, самая блестящая,
Такая, что из тысячи одна.
Постой! И я не все еще сказал,
В-четвертых, ты, как пчелка-хлопотунья,
А в-пятых, ты ужасная ворчунья
И самый грозный в доме генерал!
Смеешься? Верно. Я это шучу,
Шучу насчет ворчушки-генерала.
А в остальном же не шучу нимало,
Все правильно. Лукавить не хочу.
Но не гордись. Я зря не восхваляю.
Тут есть одно таинственное «но»:
Я свой престиж тем самым подымаю,
Ведь я же превосходно понимаю,
Что все это мое давным-давно.
Закат, неся еще полдневный жар,
Сполз прямо к речке, медленный и важный,
И вдруг, нырнув, с шипеньем поднял пар,
А может быть, туман, густой и влажный…
Не знаю я, какой отмерян срок
До тех краев, где песнь не раздается,
Но за спиною множество дорог,
И трудных, и сияющих, как солнце.
И наши дни не тлеют, а горят.
Когда ж мигнет нам вечер глазом синим,
То пусть же будет и у нас закат
Таким же золотым и соловьиным.
Но мы не на последнем рубеже,
И повоюем, и послужим людям.
Долой глаголы «было» и «уже»,
Да здравствуют слова: «еще» и «будем»!
И нынче я все то, чем дорожу,
Дарю тебе в строках стихотворений.
И, словно рыцарь, на одном колене
Свой скромный труд тебе преподношу!
И в сердце столько радужного света,
Что впору никогда не умирать!
Ну что ты плачешь, глупая, ведь это,
Наверно, счастьем надо называть…
Годовщина
Перед гранитной стелою стою,
Где высечена надпись о тебе.
Где ты сейчас — в аду или в раю?
И что теперь я знаю о тебе?
Сейчас ты за таинственной чертой,
Которую живым не пересечь,
Где нынче вечно-тягостный покой
И не звучит ни музыка, ни речь.
Уж ровно год, как над тобой — трава,
Но я, как прежде, верить не хочу.
Прошу, скажи, ты слышишь ли слова,
Что я тебе в отчаянье шепчу?!
Стою, как возле Вечного огня.
Уж ровно год нас мука развела.
Как ты его, Рябинка, провела
Там, в холоде и мраке, без меня?
Но я приду и вновь приму, любя,
То, что когда-то было мне дано,
Ведь все, что там осталось от тебя,
Другим уже не нужно все равно.
А ждать нетрудно. В это верю я,
Какой там год суровый ни придет —
С тобой там мама рядышком моя,
Она всегда прикроет, сбережет…
Нам вроде даже в числах повезло,
Ведь что ни говори, а именины.
Апрель. Двадцать девятое число.
Сегодня именинницы Галины.
Ты нынче там, в холодной тишине.
И не помочь, хоть бейся, хоть кричи!
А как ты птиц любила по весне
И яркие рассветные лучи!
На даче, в нашем сказочном раю,
По-прежнему под шумный перезвон
Они все прилетают на балкон
И ждут хозяйку добрую свою.
Перед гранитной стелою стою,
Прости мне все, как я тебе прощу.
Где ты сейчас — в аду или в раю?
А впрочем, я надежды не таю,
Мы встретимся. Я всюду отыщу!
Стихи о тебе
Галине Валентиновне Асадовой
Сквозь звездный звон, сквозь истины
и ложь,
Сквозь боль и мрак и сквозь ветра потерь
Мне кажется, что ты еще придешь
И тихо-тихо постучишься в дверь…
На нашем, на знакомом этаже,
Где ты навек впечаталась в рассвет,
Где ты живешь и не живешь уже
И где, как песня, ты и есть, и нет…
А то вдруг мниться начинает мне,
Что телефон однажды позвонит,
И голос твой, как в нереальном сне,
Встряхнув, всю душу разом опалит!
И если ты вдруг вступишь на порог,
Клянусь, что ты любою можешь быть!
Я жду! Ни саван, ни суровый рок
И никакой ни ужас и ни шок
Меня уже не смогут устрашить.
Да есть ли в жизни что-нибудь страшней
И что-нибудь чудовищнее в мире,
Чем средь знакомых книжек и вещей,
Застыв душой, без близких и друзей,
Бродить ночами по пустой квартире?!
Но самая мучительная тень
Легла на целый мир без сожаленья
В тот календарный первый летний день,
В тот памятный — день твоего рожденья…
Да, в этот день, ты помнишь, каждый год
В застолье шумном с искренней любовью
Твой самый-самый преданный народ
Пил вдохновенно за твое здоровье.
И вдруг — обрыв! Как ужас! Как провал!
И ты уже — иная, неземная…
Как я сумел? Как выжил? Устоял?
Я и теперь никак не понимаю!!!
И мог ли я представить хоть на миг,
Что будет он безудержно-жестоким,
Твой день. Холодным, жутко-одиноким,
Почти как ужас, как безмолвный крик!
Что вместо тостов, праздника и счастья,
Где все добры, хмельны и хороши,
Холодное дождливое ненастье…
И в доме тихо-тихо… Ни души.
И все, кто поздравляли и шутили,
Бурля, как полноводная река,
Вдруг как бы растворились, позабыли,
Ни звука… Ни визита… Ни звонка…
Однако было все же исключенье:
Звонок. Приятель. Сквозь холодный мрак
Нет, не зашел, а вспомнил о рожденье
И — с облегченьем — трубку на рычаг.
И снова мрак когтит, как злая птица,
А боль — не шевельнуться… Не вздохнуть!
И чем шагами мерить эту жуть,
Уж лучше б сразу к черту провалиться.
Луна, как бы шагнув из-за угла,
Глядит сквозь стекла с невеселой думкой,
Как человек, ссутулясь у стола,
Дрожа губами, чокается с рюмкой.
Да, было так. Хоть вой, хоть не дыши!
Твой образ… без телесности и речи…
И никого: ни звука, ни души…
Лишь ты, да я, да боль нечеловечья.
И снова дождь колючею стеной,
Как будто бы безжалостно штрихуя
Все, чем живу я в мире, что люблю я,
И все, что было исстари со мной.
Ты помнишь ли: в былом — за залом зал!
Аншлаги! Мир, заваленный цветами!
А в центре — мы! И счастье рядом с нами,
И бьющий ввысь восторженный накал!
А что еще? Да все на свете было!
Мы бурно жили, споря и любя…
И все ж признайся, ты меня любила
Не так, как я — стосердно и стокрыло,
Не так, как я — без памяти — тебя!
Но вот и ночь и грозовая дрожь
Ушли, у грома растворяясь в пасти,
Смешав в клубок и истину, и ложь,
Победы, боль, страдания и счастье.
А, впрочем, что я, право, говорю?
Куда к чертям исчезнут эти муки?!
Твой голос… и лицо твое… и руки!
Стократ горя, я век не отгорю.
И пусть летят за днями дни вослед,
Им не избыть того, что вечно живо —
Всех тридцать шесть невероятных лет
Мучительно и яростно-счастливых!
Когда в ночи позванивает дождь,
Сквозь песни встреч и сквозь ветра потерь
Мне кажется, что ты еще придешь
И тихо-тихо постучишься в дверь…
Не знаю, что разрушим, что найдем,
И что прощу, и что я не прощу,
Но знаю, что назад не отпущу!
Иль вместе здесь. Или — туда вдвоем.
Но Мефистофель в стенке за стеклом
Как будто ожил в облике чугунном
И, глянув вниз темно и многодумно,
Чуть усмехнулся тонкогубым ртом:
«Пойми, коль чудо даже и случится,
Я все ж скажу, печали не тая,
Что если в дверь она и постучится,
То кто, скажи мне, сможет поручиться,
Что дверь та будет именно твоя?..»
Примечания