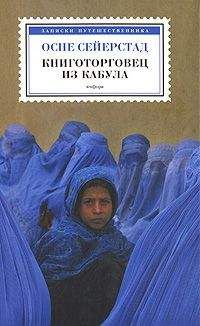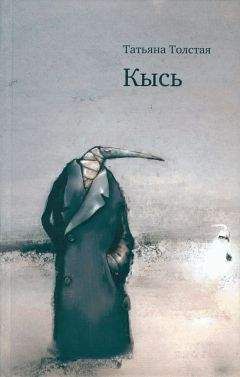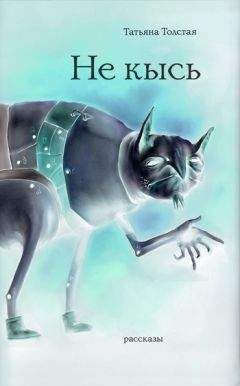Татьяна Толстая - Кысь. Зверотур. Рассказы
Тоже запрягал в сани кого порезвей, ездил в тоске, без цели по заснеженным полям, слушал перестук унылых колокольцев, протяжное пение возницы?
Гадал о прошлом, страшился будущего?
Возносился выше столпа? – а пока возносился, пока мнил себя и слабым, и грозным, и жалким, и торжествующим, пока искал, чего мы все ищем: белую птицу, главную книгу, морскую дорогу, – не заглядывал ли к жене-то твоей навозный Терентий Петрович, втируша, зубоскал, вертун полезный? Говорок его срамной, пустой по горницам не журчал ли? Не соблазнял ли интересными чудесами? «Я, Ольга Кудеяровна, одно место знаю... Подземная вода пинзин... Спичку бросить, хуяк! – и летим... Желается?»... Давай, брат, воспарим!
Ты, пушкин, скажи! Как жить? Я же тебя сам из глухой колоды выдолбил, голову склонил, руку согнул: грудь скрести, сердце слушать: что минуло? что грядет? Был бы ты без меня безглазым обрубком, пустым бревном, безымянным деревом в лесу; шумел бы на ветру по весне, осенью желуди ронял, зимой поскрипывал: никто и не знал бы про тебя! Не будь меня – и тебя бы не было! Кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал? – Я воззвал! Я!
Это верно, кривоватый ты у меня, и затылок у тебя плоский, и с пальчиками непорядок, и ног нету – сам вижу, столярное дело понимаю.
Но уж какой есть, терпи, дитятко, – какие мы, таков и ты, а не иначе!
Ты – наше все, а мы – твое, и других нетути! Нетути других-то! Так помогай!
Еры
– Дайте книгу-то, – канючил Бенедикт. – Не жидитесь, книгу дайте!
Никита Иваныч посмотрел на Лев Львовича, из диссидентов, а Лев Львович, из диссидентов, смотрел в окно. Лето, вечер, пузырь с окна сняли – далеко в окно видать.
– Рано еще!
– Чего рано? Уж солнце садится.
– Тебе рано. Ты еще азбуку не освоил. Дикий человек.
– Степь да степь кругом, – ни к селу ни к городу сказал Лев Львович сквозь зубы.
– Я не освоил?! – поразился Бенедикт. – Я?! Да я!.. Да ить!.. Да я знаете, сколько книг перечитамши? Сколько переписамши?!
– Да хоть тыщу.
– Больше!
– ...хоть тыщу, все равно. Читать ты, по сути дела, не умеешь, книга тебе не впрок, пустой шелест, набор букв. Жизненную, жизненную азбуку не освоил!
Бенедикт обомлел. Не знал, что сказать. Такое вранье откровенное, прямо вот так тебе и говорят: ты – не ты, и не Бенедикт, и на белом свете не живешь, и... прям не знаю что.
– Вот уж сказали... То есть как же? Азбуку-то... Вот есть «аз»... «слово», «мыслете»... «ферт» тоже...
– Есть и «ферт», а есть и «фита», «ять», «ижица», есть понятия тебе недоступные: чуткость, сострадание, великодушие...
– Права личности, – подъелдыкнул Лев Львович, из диссидентов.
– Честность, справедливость, душевная зоркость...
– Свобода слова, свобода печати, свобода собраний, – Лев Львович.
– Взаимопомощь, уважение к другому человеку... Самопожертвование...
– А вот это уже душок! – закричал Лев Львович, грозя пальцем. – Душок! Не в первый раз замечаю, куда вы со своей охраной памятников клоните! От этого уже попахивает!
В избе, точно, попахивало. Это он правильно подметил.
– Нет «фиты», – отказался Бенедикт: мысленно он перебрал всю азбуку, напугавшись, что, может, упустил что, – ан нет, не упустил, азбуку он знал твердо, наизусть, и на память никогда не жаловался. – Нет никакой «фиты», а за «фертом» идет сразу «хер», и на том стоим. Нету.
– И не жди, не будет, – опять ввинтился Лев Львович, – и совершенно напрасно вы, Никита Иванович, сеете мракобесие и поповщину. Сейчас, как, впрочем, и всегда, актуален социальный протест, а не толстовство. Не в первый раз за вами замечаю. Вы толстовец.
– Я...
– Толстовец, толстовец! Не спорьте!
– Но...
– Тут мы с вами, батенька, по разные стороны баррикад. Тянете общество назад. «В келью под елью». Социально вы вредны. Душок! А сейчас главное – протестовать, главное, сказать: нет! Вы помните, – когда же это было? – помните, меня призвали на дорожные работы?
– Ну?
– Я сказал: нет! Вы должны помнить, это при вас было.
– И не пошли?
– Нет, почему, я пошел. Меня вынудили. Но я сказал: нет!
– Кому вы сказали?
– Вам, вам сказал. Вы должны помнить. Я считаю, что это очень важно: в нужный момент сказать: нет! Протестую!
– Вы протестуете, но ведь пошли?
– А вы видели такого, чтобы не пошел?
– Помилуйте, но какой же смысл... если никто не слышит...
– А какой смысл в вашей, с позволения сказать, деятельности? В столбах?
– То есть как? – память!
– О чем? Чья? пустой звон! сотрясение воздуха! Вот тут сидит молодой человек, – покривился на Бенедикта Лев Львович. – Вот пусть молодой человек, блестяще знающий грамоте, ответит нам: что и зачем написано на столбе, воздвигнутом у вашей избушки, среди лопухов и крапивы?
– Это дергун-трава, – поправил Бенедикт.
– Неважно, я привык называть ее крапивой.
– Да хоть горшком назови. Это ж дергун!
– Какая разница?
– Сунь руку – узнаешь.
– Лев Львович, – заметил Никита Иванович, – возможно, молодой человек прав. Нынешние различают крапиву от дергуна, мы с вами нет, но они различают.
– Нет, извините, – уперся Лев Львович, – я еще не слепой, и давайте без мистики: я вижу крапиву и буду утверждать, что это крапива.
– Дык, Лев Львович, крапива – она ж крапива! А дергун – это дергун, дернет вас – и узнаете, какой он дергун. Из крапивы щи варить можно, дрянь суп, слов нет, но варить можно. А из дергуна попробуй свари-ка! Нипочем из дергуна супа не сваришь! Не-ет, – засмеялся Бенедикт, – никогда из дергуна супа не будет. Эвон, крапива! Никакая это не крапива. Ни боже мой. Дергун это. Он и есть. Самый что ни на есть дергун.
– Хорошо, хорошо, – остановил Лев Львович, – так что написано на столбе?
Бенедикт высунул голову в окно, прищурился, прочел Прежним все, что на столбе: «Никитские ворота», матерных семь слов, картинку матерную, Глеб плюс Клава, еще пять матерных, «Тута был Витя», «Нет в жизне щастья», матерных три, «Захар – пес» и еще одна картинка матерная. Все им прочел.
– Вот вам вся надпись, али сказать текст, доподлинно. И никакой «фиты» там нет. «Хер» – сколько хотите, раз, два... восемь. Нет, девять, в «Захаре» девятый. А «фиты» нет.
– Нет там вашей «фиты», – поддержал и Лев Львович.
– А вот и есть! – закричал ополоумевший Истопник, – «Никитские ворота» – это моя вам фита, всему народу фита! Чтобы память была о славном прошлом! С надеждой на будущее! Все, все восстановим, а начнем с малого! Это же целый пласт нашей истории! Тут Пушкин был! Он тут венчался!
– Был пушкин, – подтвердил Бенедикт. – Тут, в сараюшке, он у нас и завелся. Головку ему выдолбили, ручку, все чин чинарем. Вы же сами волочь подмогали, Лев Львович, ай забыли? Память у вас плохая! Тут и Витя был.
– Какой Витя?
– А не знаю какой, может, Витька припадошный с Верхнего Омута, может, Чучиных Витек – бойкий такой парень, помоложе меня будет; а то, может, Витя колченогий. Хотя нет, вряд ли, этому сюда не дойти. Нет, не дойдет. У него нога-то эдак на сторону свернута, вроде как ступней вовнутрь...
– О чем ты говоришь, какой Витя, при чем тут Витя...
– Да вон на столбе, на столбе-то! «Тут был Витя»! Ну и ну, я же только что прочел!
– Но это же совершенно неважно, был и был, мало ли... Я же говорю про память...
– Вот он память и оставил! Затем и резал! Чтоб знали – кто пройдет, – помнили накрепко: был он тут!
– Когда же ты научишься различать!!! – закричал Никита Иваныч, вздулся докрасна и замахал кулаками. – Это веха, историческая веха! Тут стояли Никитские ворота, понимаешь ты это?! Неандертал!!! Тут шумел великий город! Тут был Пушкин!
– Тут был Витя!!! – закричал и Бенедикт, распаляясь. – Тут был Глеб и Клава! Клава – не знаю, Клава, может, дома сидела, а Глеб тут был! Резал память! И все тут!.. А! Понял! Знаю я Витю-то! Это ж Виктор Иваныч, который старуху вашу хоронил. Распорядитель. Точно он, больше некому. Виктор Иваныч это.
– Никогда Виктор Иваныч не станет на столбе глупости резать, – запротестовали Прежние, – совершенно немыслимо... даже вообразить трудно...
– Отчего ж не станет? Вы почем знаете? Что он, глупей вас, что ли? Вы режете, а он не режь, да? Про ворота – можно, давай вырезай, а про человека – ни в коем разе, так?
Все трое молчали и дышали через нос.
– Так, – сказал Никита Иваныч, выставляя вперед обе ладоши. – Спокойно. Сейчас, – погоди! – сейчас я сосредоточусь и объясню. Хорошо. Ты в чем-то прав. Человек – это важно. Но! В чем тут суть? – Никита Иваныч собрал пальчики в щепотку. – Суть в том, что эта память – следи внимательно, Бенедикт! – может существовать на разных уровнях...
Бенедикт плюнул.
– За дурака держите! Как с малым ребятенком!.. Ежели он дылда стоеросовая, так у него и уровень другой! Он на самой маковке вырежет! Ежели коротышка – не дотянется, внизу сообщит! А тут посередке, в аккурат в рост Виктора Иваныча. Он это, и сумнений никаких быть не должно.
– Степь да степь кру-го-о-ом... – ни с того ни с сего запел Лев Львович.